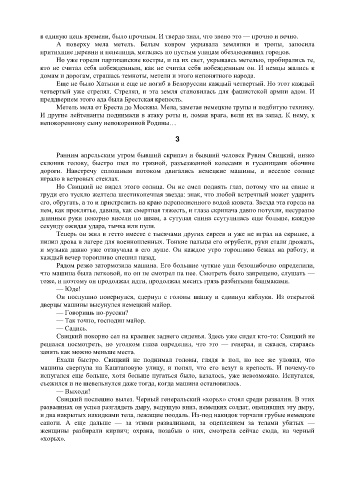Page 117 - В списках не значился
P. 117
в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.
А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила
притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.
Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те,
кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к
домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.
Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый
четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И
преддверием этого ада была Брестская крепость.
Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику.
И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему, к
непокоренному сыну непокоренной Родины…
3
Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко
склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине
дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце
играло в ветровых стеклах.
Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и
груди его тускло желтела шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить
его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на
нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно
длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую
секунду ожидая удара, тычка или пули.
Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а
пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать,
и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу, и
каждый вечер торопливо спешил назад.
Рядом резко затормозила машина. Его большие чуткие уши безошибочно определили,
что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать —
тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.
— Юде!
Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой
дверцы машины высунулся немецкий майор.
— Говоришь по-русски?
— Так точно, господин майор.
— Садись.
Свицкий покорно сел на краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не
решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это — генерал, и сжался, стараясь
занять как можно меньше места.
Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что
машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то
испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался,
съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.
— Выходи!
Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «хорьх» стоял среди развалин. В этих
развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру,
и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие
сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением за телами убитых —
женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный
«хорьх».