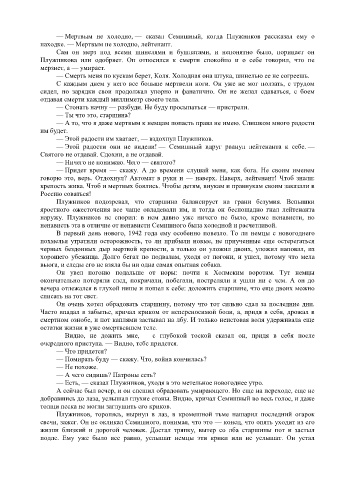Page 115 - В списках не значился
P. 115
— Мертвым не холодно, — сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о
находке. — Мертвым не холодно, лейтенант.
Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он
Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не
мерзнет, а — умирает.
— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.
С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом
сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем
отдавая смерти каждый миллиметр своего тела.
— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.
— Ты что это, старшина?
— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости
им будет.
— Этой радости им хватает, — вздохнул Плужников.
— Этой радости они не видели! — Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. —
Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай.
— Ничего не понимаю. Чего — святого?
— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем
говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали:
крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в
Россию соваться!
Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки
яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта
наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но
ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой.
В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего
похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться
черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из
хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела
вьюга, и следы его не взяла бы ни одна самая опытная собака.
Он увел погоню подальше от норы: почти к Холмским воротам. Тут немцы
окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до
вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно
списать на тот свет.
Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни.
Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а, придя в себя, дрожал в
смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще
остатки жизни в уже омертвевшем теле.
— Видно, не дожить мне, — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после
очередного приступа. — Видно, тебе придется.
— Что придется?
— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?
— Не похоже.
— А чего сидишь? Патроны есть?
— Есть, — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.
А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не
добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже
толщи песка не могли заглушить его криков.
Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок
свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это — конец, что опять уходит из его
жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл
подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал