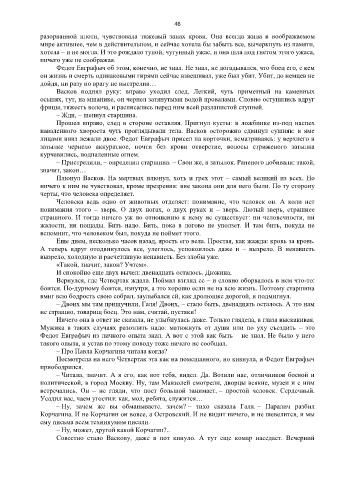Page 46 - А зори здесь тихие
P. 46
46
разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом
мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть все, вычеркнуть из памяти,
хотела – и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса,
ничего уже не соображая.
Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем
он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не
дойдя, ни разу по врагу не выстрелив…
Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть приметный на каменных
осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг
фрицы, тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.
– Жди, – шепнул старшина.
Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех
наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме
лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в
затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженого затылка
курчавились, подпаленные огнем.
– Пристрелили, – определил старшина. – Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой,
значит, закон…
Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот – самый великий из всех. Но
ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону
черты, что человека определяет.
Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет
понимания этого – зверь. О двух ногах, о двух руках и – зверь. Лютый зверь, страшнее
страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни
жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не
вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.
Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь.
А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и – вызрело. В ненависть
вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.
«Такой, значит, закон? Учтем».
И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.
Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее – и словно оборвалось в нем что-то:
боится. По-дурному боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина
вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул.
– Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, – стало быть, двенадцать осталось. А это нам
не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!
Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая.
Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить – это
Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть – не знал. Не было у него
такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.
– Про Павла Корчагина читала когда?
Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч
приободрился.
– Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и
политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним
встречались. Он – не гляди, что пост большой занимает, – простой человек. Сердечный.
Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится…
– Ну, зачем же вы обманываете, зачем? – тихо сказала Галя. – Паралич разбил
Корчагина. И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы
ему письма всем техникумом писали.
– Ну, может, другой какой Корчагин?..
Совестно стало Васкову, даже в пот кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний