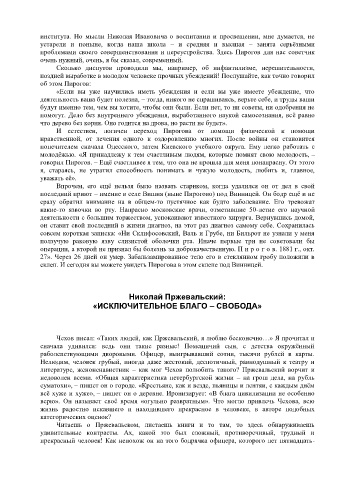Page 106 - Этюды о ученых
P. 106
института. Но мысли Николая Ивановича о воспитании и просвещении, мне думается, не
устарели и поныне, когда наша школа – и средняя и высшая – занята серьёзными
проблемами своего совершенствования и переустройства. Здесь Пирогов для нас советчик
очень нужный, очень, я бы сказал, современный.
Сколько диспутов проводили мы, например, об инфантилизме, нерешительности,
поздней выработке в молодом человеке прочных убеждений! Послушайте, как точно говорил
об этом Пирогов:
«Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что
деятельность ваша будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши
будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не
помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самосознания, всё равно
что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет».
И естествен, логичен переход Пирогова от помощи физической к помощи
нравственной, от лечения одного к оздоровлению многих. После войны он становится
попечителем сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. Ему легко работать с
молодёжью. «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость, –
говорил Пирогов. – Ещё счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого
я, стараясь, не утратил способность понимать и чужую молодость, любить и, главное,
уважать её».
Впрочем, его ещё нельзя было назвать стариком, когда удалился он от дел в свой
последний приют – имение в селе Вишня (ныне Пирогово) под Винницей. Он бодр ещё и не
сразу обратил внимание на в общем-то пустячное как будто заболевание. Его тревожат
какие-то язвочки во рту. Напрасно московские врачи, отметившие 50-летие его научной
деятельности с большим торжеством, успокаивают известного хирурга. Вернувшись домой,
он ставит свой последний в жизни диагноз, на этот раз диагноз самому себе. Сохранилась
совсем короткая записка: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня
ползучую раковую язву слизистой оболочки рта. Иначе первые три не советовали бы
операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную. П и р о г о в. 1881 г., окт.
27». Через 26 дней он умер. Забальзамированное тело его в стеклянном гробу положили в
склеп. И сегодня вы можете увидеть Пирогова в этом склепе под Винницей.
Николай Пржевальский:
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГО – СВОБОДА»
Чехов писал: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно…» Я прочитал и
сначала удивился: ведь они такие разные! Помещичий сын, с детства окружённый
раболепствующими дворовыми. Офицер, выигрывавший сотни, тысячи рублей в карты.
Нелюдим, человек грубый, иногда даже жестокий, деспотичный, равнодушный к театру и
литературе, женоненавистник – как мог Чехов полюбить такого? Пржевальский ворчит и
недоволен всеми. «Общая характеристика петербургской жизни – на грош дела, на рубль
суматохи», – пишет он о городе. «Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи, с каждым днём
всё хуже и хуже», – пишет он о деревне. Иронизирует: «В блага цивилизации не особенно
верю». Он называет своё время «огульно развратным». Что могло привлечь Чехова, всю
жизнь радостно искавшего и находившего прекрасное в человеке, в авторе подобных
категорических оценок?
Читаешь о Пржевальском, листаешь книги и то там, то здесь обнаруживаешь
удивительные контрасты. Ах, какой это был сложный, противоречивый, трудный и
прекрасный человек! Как непохож он на того бодрячка офицера, которого лет пятнадцать-