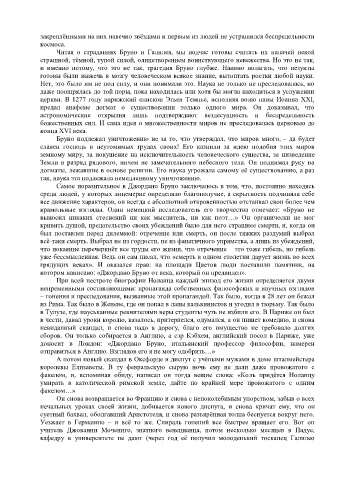Page 11 - Этюды о ученых
P. 11
закреплёнными на них навечно звёздами и первым из людей не устрашился беспредельности
космоса.
Читая о страданиях Бруно и Галилея, мы подчас готовы считать их палачей некой
страшной, тёмной, тупой силой, олицетворением воинствующего невежества. Но это не так,
и именно потому, что это не так, трагедия Бруно глубже. Наивно полагать, что иезуиты
готовы были выжечь в мозгу человеческом всякое знание, вытоптать ростки любой науки.
Нет, это было им не под силу, и они понимали это. Наука не только не преследовалась, но
даже поощрялась до той поры, пока находилась или хотя бы могла находиться в услужении
церкви. В 1277 году парижский епископ Этьен Темпье, исполняя волю папы Иоанна XXI,
предал анафеме догмат о существовании только одного мира. Он доказывал, что
астрономические открытия лишь подтверждают вездесущность и беспредельность
божественных сил. И сама идея о множественности миров не преследовалась церковью до
конца XVI века.
Бруно подлежал уничтожению не за то, что утверждал, что миров много, – да будет
славен господь в неутомимых трудах своих! Его казнили за идею подобия этих миров
земному миру, за покушение на исключительность человеческого существа, за низведение
Земли в разряд рядового, ничем не замечательного небесного тела. Он поднимал руку на
догматы, лежавшие в основе религии. Его наука угрожала самому её существованию, а раз
так, наука эта подлежала немедленному уничтожению.
Самое поразительное в Джордано Бруно заключалось в том, что, постоянно находясь
среди людей, у которых лицемерие определяло благополучие, а скрытность подчиняла себе
все движение характеров, он всегда с абсолютной откровенностью отстаивал свои более чем
крамольные взгляды. Один немецкий исследователь его творчества отмечает: «Бруно не
выносил никаких стеснений ни как мыслитель, ни как поэт…» Он органически не мог
кривить душой, предательство своих убеждений было для него страшнее смерти, и, когда он
был поставлен перед дилеммой: отречение или смерть, он после тяжких раздумий выбрал
всё-таки смерть. Выбрал не из гордости, не из фанатичного упрямства, а лишь из убеждений,
что покаяние перечеркнёт все труды его жизни, что отречение – это тоже гибель, но гибель
уже бессмысленная. Ведь он сам писал, что «смерть в одном столетии дарует жизнь во всех
грядущих веках». И оказался прав: на площади Цветов люди поставили памятник, на
котором написано: «Джордано Бруно от века, который он предвидел».
При всей пестроте биографии Ноланца каждый эпизод его жизни определяется двумя
непременными составляющими: пропаганда собственных философских и научных взглядов
– гонения и преследования, вызванные этой пропагандой. Так было, когда в 28 лет он бежал
из Рима. Так было в Женеве, где он попал в лапы кальвинистов и угодил в тюрьму. Так было
в Тулузе, где науськанные ревнителями веры студенты чуть не избили его. В Париже он был
в чести, давал уроки королю, казалось, притерпелся, одумался, а он пишет комедию, и снова
невиданный скандал, и снова надо в дорогу, благо его имущество не требовало долгих
сборов. Он только собирается в Англию, а сэр Кэбхем, английский посол в Париже, уже
доносит в Лондон: «Джордано Бруно, итальянский профессор философии, намерен
отправиться в Англию. Взглядов его я не могу одобрить…»
А потом новый скандал в Оксфорде и диспут с учёными мужами в доме шталмейстера
королевы Елизаветы. В ту февральскую сырую ночь ему не дали даже провожатого с
факелом, и, вспоминая обиду, написал он тогда вещие слова: «Коль придётся Ноланцу
умирать в католической римской земле, дайте по крайней мере провожатого с одним
факелом…»
Он снова возвращается во Францию и снова с непоколебимым упорством, забыв о всех
печальных уроках своей жизни, добивается нового диспута, и снова кричат ему, что он
суетный бахвал, оболгавший Аристотеля, и снова разъярённая толпа беснуется вокруг него.
Уезжает в Германию – и всё то же. Спираль гонений все быстрее вращает его. Вот он
учитель Джованни Мочениго, знатного венецианца, потом несколько месяцев в Падуе,
кафедру в университете не дают (через год её получил молоденький тосканец Галилео