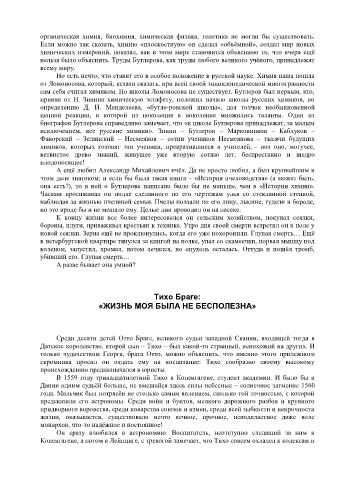Page 15 - Этюды о ученых
P. 15
органическая химия, биохимия, химическая физика, генетика не могли бы существовать.
Если можно так сказать, химию «плоскостную» он сделал «объёмной», создал мир новых
химических измерений, показал, как в этом мире становится объяснимо то, что вчера ещё
нельзя было объяснить. Труды Бутлерова, как труды любого великого учёного, принадлежат
всему миру.
Но есть нечто, что ставит его в особое положение в русской науке. Химия наша пошла
от Ломоносова, который, кстати сказать, при всей своей энциклопедической многогранности
сам себя считал химиком. Но школы Ломоносова не существует. Бутлеров был первым, кто,
приняв от Н. Зинина химическую эстафету, положил начало школы русских химиков, по
определению Д. И. Менделеева, «бутле-ровской школы», дал толчок необыкновенной
цепной реакции, в которой из поколения в поколение множились таланты. Один из
биографов Бутлерова справедливо замечает, что «к школе Бутлерова принадлежат, за малым
исключением, все русские химики». Зинин – Бутлеров – Марковников – Каблуков –
Фаворский – Зелинский – Несмеянов – сотни учеников Несмеянова – тысячи будущих
химиков, которых готовят эти ученики, превратившиеся в учителей, – вот оно, могучее,
ветвистое древо знаний, живущее уже вторую сотню лет, беспрестанно и щедро
плодоносящее!
А ещё любил Александр Михайлович пчёл. Да не просто любил, а был крупнейшим в
этом деле знатоком; и если бы была такая книга – «История пчеловодства» (а может быть,
она есть?), то в ней о Бутлерове написано было бы не меньше, чем в «Истории химии».
Часами просиживал он подле сделанного по его чертежам улья со стеклянной стенкой,
наблюдая за жизнью пчелиной семьи. Пчелы ползали по его лицу, лысине, гудели в бороде,
но это вроде бы и не мешало ему. Целые дни проводил он на пасеке.
К концу жизни все более интересовался он сельским хозяйством, покупал сеялки,
бороны, плуги, приваживал крестьян к технике. Утро дня своей смерти встретил он в поле у
новой сеялки. Зерна ещё не проклюнулись, когда его уже похоронили. Глупая смерть… Ещё
в петербургской квартире тянулся за книгой на полке, упал со скамеечки, порвал мышцу под
коленом, запустил, хромал, потом лечился, но опухоль осталась. Оттуда и пошёл тромб,
убивший его. Глупая смерть…
А разве бывает она умной?
Тихо Браге:
«ЖИЗНЬ МОЯ БЫЛА НЕ БЕСПОЛЕЗНА»
Среди десяти детей Отто Браге, великого судьи западной Скании, входящей тогда в
Датское королевство, второй сын – Тихо – был какой-то странный, непохожий на других. И
только чудачеством Георга, брата Отто, можно объяснить, что именно этого прилежного
скромника просил он отдать ему на воспитание: Тихо сообразно своему высокому
происхождению предназначался в юристы.
В 1559 году тринадцатилетний Тихо в Копенгагене, студент академии. И было бы в
Дании одним судьёй больше, не вмешайся здесь силы небесные – солнечное затмение 1560
года. Мальчик был потрясён не столько самим явлением, сколько той точностью, с которой
предсказали его астрономы. Среди войн и бунтов, мелкого дорожного разбоя и крупного
придворного воровства, среди коварства союзов и измен, среди всей зыбкости и непрочности
жизни, оказывается, существовало нечто вечное, прочное, неподвластное даже воле
монархов, что-то надёжное и постоянное!
Он сразу влюбился в астрономию. Воспитатель, неотступно следящий за ним в
Копенгагене, а потом в Лейпциге, с тревогой замечает, что Тихо совсем охладел к кодексам и