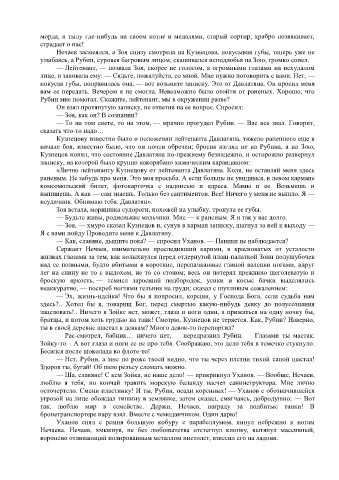Page 143 - Горячий снег
P. 143
морда, в тылу где-нибудь на своем котле и медалями, старый сортир, храбро позвякивает,
страдает о нас!
Нечаев засмеялся, а Зоя снизу смотрела на Кузнецова, покусывая губы, теперь уже не
улыбаясь, а Рубин, суровея багровым лицом, скашивался исподлобья на Зою, громко сопел.
— Лейтенант, — позвала Зоя, скорее не голосом, а огромными глазами на исхудалом
лице, и закивала ему: — Сядьте, пожалуйста, со мной. Мне нужно поговорить с вами. Нет, —
покусав губы, поправилась она, — вот возьмите записку. Это от Давлатяна. Он просил меня
вам ее передать. Вечером я не смогла. Невозможно было отойти от раненых. Хорошо, что
Рубин мне помогал. Скажите, лейтенант, мы в окружении разве?
Он взял протянутую записку, не ответив на ее вопрос. Спросил:
— Зоя, как он? В сознании?
— То на том свете, то на этом, — мрачно прогудел Рубин. — Вас все звал. Говорит,
сказать что-то надо…
Кузнецову известно было о положении лейтенанта Давлатяна, тяжело раненного еще в
начале боя, известно было, что он почти обречен; бросив взгляд не на Рубина, а на Зою,
Кузнецов понял, что состояние Давлатяна по-прежнему безнадежно, и осторожно развернул
записку, на которой было крупно накорябано химическим карандашом:
«Лично лейтенанту Кузнецову от лейтенанта Давлатяна. Коля, не оставляй меня здесь
раненым. Не забудь про меня. Это моя просьба. А если больше не увидимся, в левом кармане
комсомольский билет, фотокарточка с надписью и адреса. Мамы и ее. Возьмешь и
напишешь. А как — сам знаешь. Только без сантиментов. Все! Ничего у меня не вышло. Я —
неудачник. Обнимаю тебя. Давлатян».
Зоя встала, морщинка судороги, похожей на улыбку, тронула ее губы.
— Будьте живы, родненькие мальчики. Мне — к раненым. Я и так у вас долго.
— Зоя, — хмуро сказал Кузнецов и, сунув в карман записку, шагнул за ней к выходу —
Я с вами пойду Проводите меня к Давлатяну.
— Как, славяне, дышите пока? — спросил Уханов. — Паники не наблюдается?
Сержант Нечаев, внимательно проследивший карими, в красноватых от усталости
жилках глазами за тем, как колыхнулся перед отдернутой плащ-палаткой Зоин полушубочек
над ее полными, будто вбитыми в короткие, перепачканные глиной валенки ногами, вдруг
лег на спину не то с выдохом, не то со стоном; весь он потерял прежнюю щеголеватую и
броскую яркость, — темнел заросший подбородок, усики и косые бачки выделялись
неаккуратно, — поскреб ногтями тельник на груди; сказал с шутливым сожалением:
— Эх, жизнь-идейка! Что бы я попросил, кореши, у Господа Бога, если судьба нам
здесь?.. Хотел бы я, товарищ Бог, перед смертью какую-нибудь девку до полусознания
зацеловать!.. Ничего в Зойке нет, может, глаза и ноги одни, а прижаться на одну ночку бы,
братцы, и потом хоть грудью на танк! Смотрю, Кузнецов не теряется. Как, Рубин? Наверно,
ты в своей деревне шастал к девкам? Много девок-то перепортил?
— Рас-смотрел, бабник… ничего нет, — передразнил Рубин. — Глазами ты мастак.
Зойку-то. . А вот глаза и ноги ее не про тебя. Соображаю, это дело тебя в темечко стукнуло.
Бесился после шоколада во флоте-то!
— Нет, Рубин, а мне по роже твоей видно, что ты через плетни тихой сапой шастал!
Здоров ты, бугай! Об шею рельсу сломать можно.
— Ша, славяне! С кем Зойка, не наше дело! — прикрикнул Уханов. — Вообще, Нечаев,
люблю я тебя, но кончай травить морскую баланду насчет санинструктора. Мне лично
осточертело. Смени пластинку! И ты, Рубин, осади коренных! — Уханов с обозначившейся
угрозой на лице обождал тишину в землянке, затем сказал, смягчаясь, добродушно: — Вот
так, люблю мир в семействе. Держи, Нечаев, награду за подбитые танки! В
бронетранспортере пару взял. Вместе с чемоданчиком. Один дарю!
Уханов снял с ремня большую кобуру с парабеллумом, кинул небрежно к ногам
Нечаева. Нечаев, хмыкнув, не без любопытства отстегнул кнопку, вытянул массивный,
воронено отливающий полированным металлом пистолет, взвесил его на ладони.