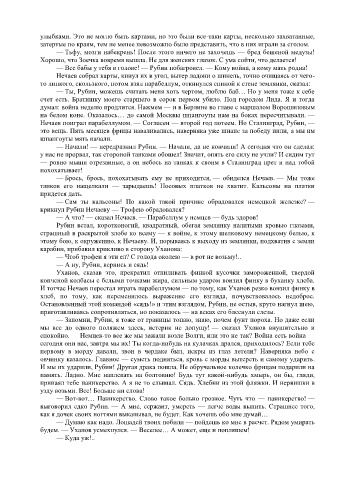Page 145 - Горячий снег
P. 145
улыбками. Это не могло быть картами, но это были все-таки карты, несколько захватанные,
затертые по краям, тем не менее невозможно было представить, что в них играли за столом.
— Тьфу, мозги набекрень! После этого ничего не захочешь — бред бешеной медузы!
Хорошо, что Зоечка вовремя вышла. Не для женских глазок. С ума сойти, что делается!
— Все бабы у тебя в голове! — Рубин побагровел. — Кому война, а кому мать родна!
Нечаев собрал карты, кинул их в угол, вытер ладони о шинель, точно очищаясь от чего-
то липкого, скользкого, потом взял парабеллум, откинулся спиной к стене землянки, сказал:
— Ты, Рубин, можешь считать меня хоть чертом, люблю баб… Но у меня тоже к себе
счет есть. Братишку моего старшего в сорок первом убило. Под городом Лида. Я и тогда
думал: война неделю продлится. Нажмем — и в Берлине во главе с маршалом Ворошиловым
на белом коне. Оказалось… до самой Москвы шпангоуты нам на боках пересчитывали. —
Нечаев поиграл парабеллумом. — Согласен — второй год потеем. Но Сталинград, Рубин, —
это вещь. Пять месяцев фрицы наваливались, наверняка уже шнапс за победу пили, а мы им
шпангоуты мять начали.
— Начали! — передразнил Рубин. — Начали, да не кончили! А сегодня что он сделал:
у нас не прорвал, так стороной танками обошел! Значит, опять его силу не учли? И сидим тут
— ровно мыши отрезанные, а он небось на танках к своим в Сталинград прет и над тобой
похохатывает!
— Брось, брось, похохатывать ему не приходится, — обиделся Нечаев. — Мы тоже
танков его нащелкали — зарыдаешь! Носовых платков не хватит. Кальсоны на платки
придется дать.
— Сам ты кальсоны! По какой такой причине обрадовался немецкой железке? —
крикнул Рубин Нечаеву — Трофею обрадовался?
— А что? — сказал Нечаев. — Парабеллум у немцев — будь здоров!
Рубин встал, коротконогий, квадратный, обегая землянку налитыми кровью глазами,
страшный в раскрытой злобе ко всему — к войне, к этому шелковому немецкому белью, к
этому бою, к окружению, к Нечаеву. И, порываясь к выходу из землянки, подхватив с земли
карабин, прибавил крикливо в сторону Уханова:
— Чтоб трофеи я эти ел? С голода околею — в рот не возьму!..
— А ну, Рубин, вернись и сядь!
Уханов, сказав это, прекратил отпиливать финкой кусочки замороженной, твердой
копченой колбасы с белыми точками жира, сильным ударом вонзил финку в буханку хлеба.
И тотчас Нечаев перестал играть парабеллумом — по тому, как Уханов резко вонзил финку в
хлеб, по тому, как переменилось выражение его взгляда, почувствовалось недоброе.
Остановленный этой командой «сядь!» и этим взглядом, Рубин, не остыв, круто нагнул шею,
приготавливаясь сопротивляться, но показалось — на веках его блеснули слезы.
— Запомни, Рубин, я тоже от границы топаю, знаю, почем фунт пороха. Но даже если
мы все до одного поляжем здесь, истерик не допущу! — сказал Уханов внушительно и
спокойно. — Немцев-то все же мы зажали возле Волги, или это не так? Война есть война —
сегодня они нас, завтра мы их! Ты когда-нибудь на кулачках дрался, приходилось? Если тебе
первому в морду давали, звон в чердаке был, искры из глаз летели? Наверняка небо с
овчинку казалось. Главное — суметь подняться, кровь с морды вытереть и самому ударить.
И мы их ударили, Рубин! Другая драка пошла. Не обручальное колечко фрицам подарили на
память. Ладно. Мне наплевать на болтовню! Будь тут какой-нибудь хмырь, он бы, гляди,
припаял тебе паникерство. А я не то слышал. Сядь. Хлебни из этой фляжки. И нервишки в
узду возьми. Все! Больше ни слова!
— Вот-вот… Паникерство. Слово такое больно грозное. Чуть что — паникерство! —
выговорил едко Рубин. — А мне, сержант, умереть — легче воды выпить. Страшнее того,
как я дочек своих ногтями выкапывал, не будет. Как хочешь обо мне думай…
— Думаю как надо. Лошадей твоих побили — пойдешь ко мне в расчет. Рядом умирать
будем. — Уханов усмехнулся. — Веселее… А может, еще и попляшем!
— Куда уж!..