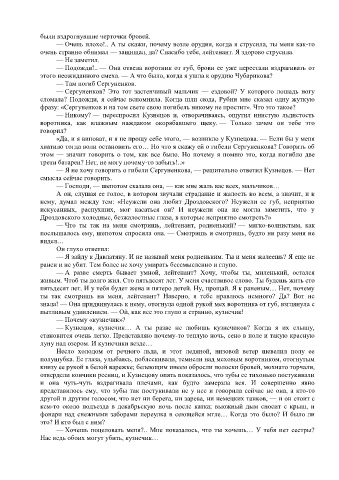Page 147 - Горячий снег
P. 147
были вздрогнувшие черточки бровей.
— Очень плохо!.. А ты скажи, почему возле орудия, когда я струсила, ты меня как-то
очень странно обнимал — защищал, да? Спасибо тебе, лейтенант. Я здорово струсила.
— Не заметил.
— Подожди!.. — Она отвела воротник от губ, брови ее уже перестали вздрагивать от
этого неожиданного смеха. — А что было, когда я ушла к орудию Чубарикова?
— Там погиб Сергуненков.
— Сергуненков? Это тот застенчивый мальчик — ездовой? У которого лошадь ногу
сломала? Подожди, я сейчас вспомнила. Когда шли сюда, Рубин мне сказал одну жуткую
фразу: «Сергуненков и на том свете свою погибель никому не простит». Что это такое?
— Никому? — переспросил Кузнецов и, отворачиваясь, ощутил инистую льдистость
воротника, как влажным наждаком окорябавшего щеку. — Только зачем он тебе это
говорил?
«Да, и я виноват, и я не прощу себе этого, — возникло у Кузнецова. — Если бы у меня
хватило тогда воли остановить его… Но что я скажу ей о гибели Сергуненкова? Говорить об
этом — значит говорить о том, как все было. Но почему я помню это, когда погибло две
трети батареи? Нет, не могу почему-то забыть!..»
— Я не хочу говорить о гибели Сергуненкова, — решительно ответил Кузнецов. — Нет
смысла сейчас говорить.
— Господи, — шепотом сказала она, — как мне жаль вас всех, мальчиков…
А он, слушая ее голос, в котором звучали страдание и жалость ко всем, а значит, и к
нему, думал между тем: «Неужели она любит Дроздовского? Неужели ее губ, неприятно
искусанных, распухших, мог касаться он? И неужели она не могла заметить, что у
Дроздовского холодные, безжалостные глаза, в которые неприятно смотреть?»
— Что ты так на меня смотришь, лейтенант, родненький? — мягко-волнистым, как
послышалось ему, шепотом спросила она. — Смотришь и смотришь, будто ни разу меня не
видел…
Он глухо ответил:
— Я зайду к Давлатяну. И не называй меня родненьким. Ты и меня жалеешь? Я еще не
ранен и не убит. Тем более не хочу умирать бессмысленно и глупо.
— А разве смерть бывает умной, лейтенант? Хочу, чтобы ты, миленький, остался
живым. Чтоб ты долго жил. Сто пятьдесят лет. У меня счастливое слово. Ты будешь жить сто
пятьдесят лет. И у тебя будет жена и пятеро детей. Ну, прощай. Я к раненым… Нет, почему
ты так смотришь на меня, лейтенант? Наверно, я тебе нравлюсь немного? Да? Вот не
знала! — Она придвинулась к нему, отогнула одной рукой мех воротника от губ, взглянула с
пытливым удивлением. — Ой, как все это глупо и странно, кузнечик!
— Почему «кузнечик»?
— Кузнецов, кузнечик… А ты разве не любишь кузнечиков? Когда я их слышу,
становится очень легко. Представляю почему-то теплую ночь, сено в поле и такую красную
луну над озером. И кузнечики везде…
Несло холодом от речного льда, и этот ледяной, низовой ветер шевелил полу ее
полушубка. Ее глаза, улыбаясь, поблескивали, темнели над меховым воротником, отогнутым
книзу ее рукой в белой варежке; белеющим инеем обросли полоски бровей, мохнато торчали,
отвердели кончики ресниц, и Кузнецову опять показалось, что зубы ее тихонько постукивали
и она чуть-чуть вздрагивала плечами, как будто замерзла вся. И совершенно явно
представилось ему, что зубы так постукивали не у нее и говорила сейчас не она, а кто-то
другой и другим голосом, что нет ни берега, ни зарева, ни немецких танков, — и он стоит с
кем-то около подъезда в декабрьскую ночь после катка; вьюжный дым сносит с крыш, и
фонари над снежными заборами переулка в сеющейся мгле… Когда это было? И было ли
это? И кто был с ним?
— Хочешь поцеловать меня?.. Мне показалось, что ты хочешь… У тебя нет сестры?
Нас ведь обоих могут убить, кузнечик…