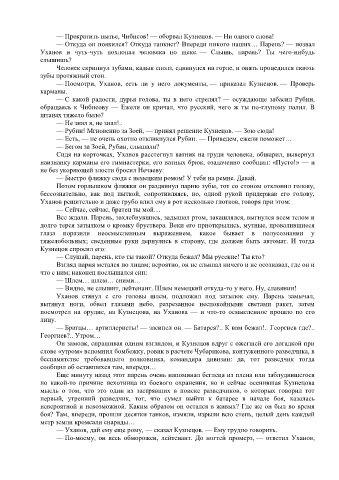Page 150 - Горячий снег
P. 150
— Прекратить нытье, Чибисов! — оборвал Кузнецов. — Ни одного слова!
— Откуда он появился? Откуда танкист? Впереди никого наших… Парень? — позвал
Уханов и чуть-чуть похлопал человека по щеке. — Слышь, парень? Ты чего-нибудь
слышишь?
Человек скрипнул зубами, кадык сполз, сдвинулся на горле, и опять процедился сквозь
зубы протяжный стон.
— Посмотри, Уханов, есть ли у него документы, — приказал Кузнецов. — Проверь
карманы.
— С какой радости, дурья голова, ты в него стрелял? — осуждающе забасил Рубин,
обращаясь к Чибисову — Ежели он кричал, что русский, чего ж ты по-глупому палил. В
штанах тяжело было?
— Не знал я, не знал!..
— Рубин! Мгновенно за Зоей, — принял решение Кузнецов. — Зою сюда!
— Есть, — не очень охотно откликнулся Рубин. — Приведем, ежели поможет…
— Бегом за Зоей, Рубин, слышали?
Сидя на корточках, Уханов расстегнул ватник на груди человека, обшарил, вывернул
наизнанку карманы его гимнастерки, его ватных брюк, озадаченно сообщил: «Пусто!» — и
не без укоряющей злости бросил Нечаеву:
— Быстро фляжку сюда с немецким ромом! У тебя на ремне. Давай.
Потом горлышком фляжки он раздвинул парню зубы, тот со стоном отклонил голову,
бессознательно, как под пыткой, сопротивляясь, но, одной рукой придержав его голову,
Уханов решительно и даже грубо влил ему в рот несколько глотков, говоря при этом:
— Сейчас, сейчас, братец ты мой…
Все ждали. Парень, захлебнувшись, задышал ртом, закашлялся, выгнулся всем телом и
долго терся затылком о кромку бруствера. Веки его приоткрылись, мутные, провалившиеся
глаза поразили неосмысленным выражением, какое бывает в полусознании у
тяжелобольных; сведенные руки дернулись в сторону, где должен быть автомат. И тогда
Кузнецов спросил его:
— Слушай, парень, кто ты такой? Откуда бежал? Мы русские! Ты кто?
Взгляд парня метался по лицам; вероятно, он не слышал ничего и не осознавал, где он и
что с ним; наконец послышался сип:
— Шлем… шлем… сними…
— Видно, не слышит, лейтенант. Шлем немецкий откуда-то у него. Ну, славянин!
Уханов стянул с его головы шлем, подложил под затылок ему. Парень замычал,
вытянул ноги, обвел глазами небо, разрезанное неспокойными светами ракет, затем
посмотрел на орудие, на Кузнецова, на Уханова — и что-то осмысленное прошло по его
лицу.
— Братцы… артиллеристы! — засипел он. — Батарея?.. К вам бежал!.. Георгиев где?..
Георгиев?.. Утром…
Он замолк, спрашивая одним взглядом, и Кузнецов вдруг с ожегшей его догадкой при
слове «утром» вспомнил бомбежку, ровик в расчете Чубарикова, контуженного разведчика, в
беспамятстве требовавшего полковника, командира дивизии: да, тот разведчик тогда
сообщил об оставшихся там, впереди…
Еще минуту назад этот парень очень напоминал беглеца из плена или заблудившегося
по какой-то причине пехотинца из боевого охранения, но и сейчас осенившая Кузнецова
мысль о том, что это один из застрявших в поиске разведчиков, о которых говорил тот
первый, утренний разведчик, тот, что сумел выйти к батарее в начале боя, казалась
невероятной и невозможной. Каким образом он остался в живых? Где же он был во время
боя? Там, впереди, прошли десятки танков, измяли, изрыли всю степь, целый день каждый
метр земли кромсали снаряды…
— Уханов, дай ему еще рому, — сказал Кузнецов. — Ему трудно говорить.
— По-моему, он весь обморожен, лейтенант. До ногтей промерз, — ответил Уханов,