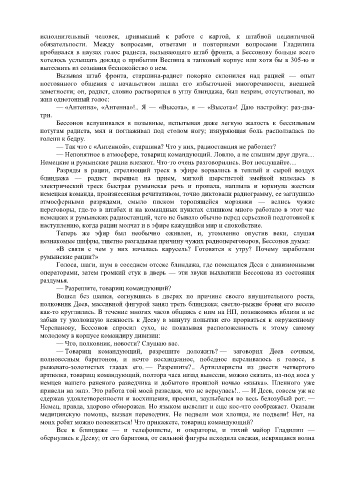Page 183 - Горячий снег
P. 183
исполнительный человек, привыкший к работе с картой, к штабной педантичной
обязательности. Между вопросами, ответами и повторными вопросами Гладилина
пробивался в паузах голос радиста, вызывающего штаб фронта, а Бессонову больше всего
хотелось услышать доклад о прибытии Веснина в танковый корпус или хотя бы в 305-ю и
вытеснить из сознания беспокойство о нем.
Вызывая штаб фронта, старшина-радист покорно склонился над рацией — опыт
постоянного общения с начальством лишал его избыточной многоречивости, внешней
заметности; он, радист, словно растворился в углу блиндажа, был незрим, отсутствовал, но
жил однотонный голос:
— «Антенна», «Антенна»!.. Я — «Высота», я — «Высота»! Даю настройку: раз-два-
три.
Бессонов вслушивался в позывные, испытывая даже легкую жалость к бессильным
потугам радиста, мял и поглаживал под столом ногу; изнуряющая боль расползалась по
голени к бедру.
— Так что с «Антенной», старшина? Что у них, радиостанция не работает?
— Непонятное в атмосфере, товарищ командующий. Ловлю, а не слышим друг друга…
Немецкие и румынские рации влезают. Что-то очень разговорились. Вот послушайте…
Разряды в рации, стреляющий треск в эфире ворвались в теплый и сырой воздух
блиндажа — радист перешел на прием, мягкой шерстистой змейкой вплелась в
электрический треск быстрая румынская речь и пропала, наплыла и юркнула жесткая
немецкая команда, произнесенная речитативом, точно диктовали радиограмму, ее заглушило
атмосферными разрядами, смыло писком торопящейся морзянки — велись чужие
переговоры, где-то в штабах и на командных пунктах слишком много работало в этот час
немецких и румынских радиостанций, чего не бывало обычно перед серьезной подготовкой к
наступлению, когда рации молчат и в эфире кажущийся мир и спокойствие.
Теперь же эфир был необычно оживлен, и, утомленно опустив веки, слушая
незнакомые шифры, тщетно разгадывая причину чужих радиопереговоров, Бессонов думал:
«В связи с чем у них началась карусель? Готовятся к утру? Почему заработали
румынские рации?»
Голоса, шаги, шум в соседнем отсеке блиндажа, где помещался Деев с дивизионными
операторами, затем громкий стук в дверь — эти звуки выхватили Бессонова из состояния
раздумья.
— Разрешите, товарищ командующий?
Вошел без шапки, согнувшись в дверях по причине своего внушительного роста,
полковник Деев, массивной фигурой занял треть блиндажа; светло-рыжие брови его весело
как-то круглились. В течение многих часов общаясь с ним на НП, познакомясь вблизи и не
забыв ту уколовшую нежность к Дееву в минуту попытки его прорваться к окруженному
Черепанову, Бессонов спросил сухо, не показывая расположенность к этому самому
молодому в корпусе командиру дивизии:
— Что, полковник, новости? Слушаю вас.
— Товарищ командующий, разрешите доложить? — заговорил Деев сочным,
полновесным баритоном, и нечто восхищенное, победное переливалось в голосе, в
рыжевато-золотистых глазах его. — Разрешите?.. Артиллеристы из двести четвертого
артполка, товарищ командующий, полтора часа назад вынесли, можно сказать, из-под носа у
немцев нашего раненого разведчика и добытого прошлой ночью «языка». Пленного уже
привели на энпэ. Это работа той моей разведки, что не вернулась!.. — И Деев, совсем уж не
сдержав удовлетворенности и восхищения, просиял, заулыбался во весь белозубый рот. —
Немец, правда, здорово обморожен. Но языком шевелит и еще кое-что соображает. Оказали
медицинскую помощь, вызван переводчик. Не подвели мои хлопцы, не подвели! Нет, на
моих ребят можно положиться! Что прикажете, товарищ командующий?
Все в блиндаже — и телефонисты, и операторы, и тихий майор Гладилин —
обернулись к Дееву; от его баритона, от сильной фигуры исходила свежая, искрящаяся волна