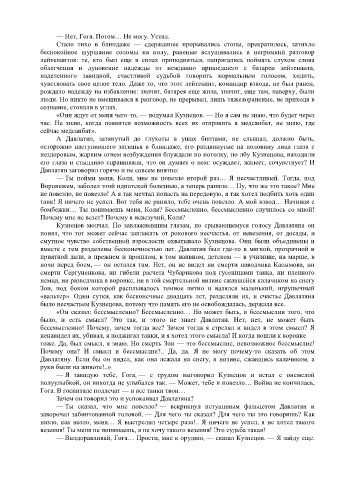Page 178 - Горячий снег
P. 178
— Нет, Гога. Потом… Не могу. Устал.
Стало тихо в блиндаже — сдержаннее прорывались стоны, прекратилось, затихло
беспокойное шуршание соломы на полу, раненые вслушивались в негромкий разговор
лейтенантов: те, кто был еще в силах приподняться, напрягались поймать слухом слова
облегчения и дуновение надежды от нежданно пришедшего с батареи лейтенанта,
наделенного завидной, счастливой судьбой говорить нормальным голосом, ходить,
чувствовать свое целое тело. Даже то, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен,
рождало надежду на избавление: значит, батарея еще жила, значит, еще там, наверху, были
люди. Но никто не вмешивался в разговор, не прерывал, лишь тяжелораненые, не приходя в
сознание, стонали в углах.
«Они ждут от меня чего-то, — подумал Кузнецов. — Но я сам не знаю, что будет через
час. Не знаю, когда появится возможность всех их отправить в медсанбат, не знаю, где
сейчас медсанбат».
А Давлатян, затянутый до глухоты в ушах бинтами, не слышал, должно быть,
осторожно наступившего затишья в блиндаже, его раздвинутые на половину лица глаза с
нездоровым, жарким огнем возбуждения блуждали по потолку, по лбу Кузнецова, находили
его глаза и стыдливо спрашивали, что он думает о нем: осуждает, жалеет, сочувствует? И
Давлатян заговорил горячо и не совсем внятно:
— Ты пойми меня, Коля, мне не повезло второй раз… Я несчастливый. Тогда, под
Воронежем, заболел этой идиотской болезнью, а теперь ранило… Ну, что же это такое? Мне
не повезло, не повезло! А я так мечтал попасть на передовую, я так хотел подбить хоть один
танк! Я ничего не успел. Вот тебя не ранило, тебе очень повезло. А мой взвод… Начиная с
бомбежки… Ты понимаешь меня, Коля? Бессмысленно, бессмысленно случилось со мной!
Почему мне не везет? Почему я невезучий, Коля?
Кузнецов молчал. По завлажневшим глазам, по срывающемуся голосу Давлатяна он
понял, что тот может сейчас заплакать от рокового несчастья, от невезения, от досады, и
смутное чувство собственной взрослости охватывало Кузнецова. Они были объединены и
вместе с тем разделены бесконечностью лет. Давлатян был где-то в мягкой, прозрачной и
приятной дали, в прежнем и прошлом, в том наивном, детском — в училище, на марше, в
ночи перед боем, — он остался там. Нет, он не видел ни смерти наводчика Касымова, ни
смерти Сергуненкова, ни гибели расчета Чубарикова под гусеницами танка, ни пленного
немца, ни разведчика в воронке, ни в той смертельной низине сжавшейся калачиком на снегу
Зои, под боком которой расплывалось темное пятно и валялся маленький, игрушечный
«вальтер». Одни сутки, как бесконечные двадцать лет, разделяли их, и счастье Давлатяна
было несчастьем Кузнецова, потому что память его не освобождалась, держала все.
«Он сказал: бессмысленно? Бессмысленно… Но может быть, в бессмыслии того, что
было, и есть смысл? Это так, и этого не знает Давлатян. Нет, нет, не может быть
бессмысленно! Почему, зачем тогда все? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я
ненавидел их, убивал, я поджигал танки, и я хотел этого смысла! И когда пошли к воронке —
тоже. Да, был смысл, я знаю. Но смерть Зои — это бессмыслие, невозможное бессмыслие!
Почему она? И смысл и бессмыслие?.. Да, да. Я не могу почему-то сказать об этом
Давлатяну. Если бы он видел, как она лежала на снегу, в низине, сжавшись калачиком, а
руки были на животе!..»
— Я завидую тебе, Гога, — с трудом выговорил Кузнецов и встал с онемелой
полуулыбкой, он никогда не улыбался так. — Может, тебе и повезло… Война не кончилась,
Гога. В госпитале подлечат — и все танки твои…
Зачем он говорил это и успокаивал Давлатяна?
— Ты сказал, что мне повезло? — вскрикнул петушиным фальцетом Давлатян и
заворочал забинтованной головой. — Для чего ты сказал? Для чего ты это говоришь? Как
назло, как назло, меня… Я выстрелил четыре раза!.. Я ничего не успел, я не хотел такого
везения! Ты меня не понимаешь, я не хочу такого везения! Это судьба такая!
— Выздоравливай, Гога… Прости, мне к орудию, — сказал Кузнецов. — Я зайду еще.