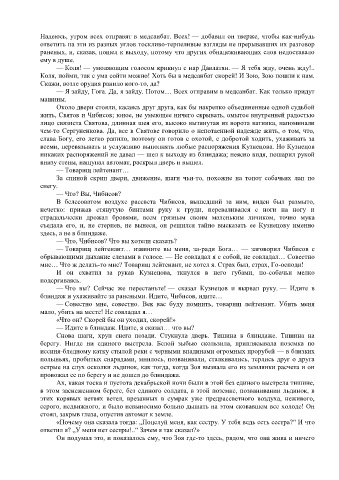Page 179 - Горячий снег
P. 179
Надеюсь, утром всех отправят в медсанбат. Всех! — добавил он тверже, чтобы как-нибудь
ответить на эти из разных углов тоскливо-терпеливые взгляды не прерывавших их разговор
раненых, и, сказав, пошел к выходу, потому что других обнадеживающих слов недоставало
ему в душе.
— Коля! — умоляющим голосом крикнул с нар Давлатян. — Я тебя жду, очень жду!..
Коля, пойми, так с ума сойти можно! Хоть бы в медсанбат скорей! И Зою, Зою пошли к нам.
Скажи, возле орудия ранило кого-то, да?
— Я зайду, Гога. Да, я зайду. Потом… Всех отправим в медсанбат. Как только придут
машины.
Около двери стояли, касаясь друг друга, как бы накрепко объединенные одной судьбой
жить, Святов и Чибисов; юное, не умеющее ничего скрывать, омытое внутренней радостью
лицо связиста Святова, длинная шея его, высоко вытянутая из ворота ватника, напоминали
чем-то Сергуненкова. Да, все в Святове говорило о непотаенной надежде жить, о том, что,
слава Богу, его легко ранило, поэтому он готов с охотой, с добротой ходить, ухаживать за
всеми, перевязывать и услужливо выполнять любые распоряжения Кузнецова. Но Кузнецов
никаких распоряжений не давал — шел к выходу из блиндажа; неясно видя, пошарил рукой
внизу стены, нащупал автомат, раскрыл дверь и вышел.
— Товарищ лейтенант…
За спиной скрип двери, движение, шаги чьи-то, похожие на топот собачьих лап по
снегу.
— Что? Вы, Чибисов?
В белесоватом воздухе рассвета Чибисов, вышедший за ним, виден был размыто,
нечетко: прижав стянутую бинтами руку к груди, переваливался с ноги на ногу и
страдальчески дрожал бровями, всем грязным своим маленьким личиком, точно мука
съедала его, и, не стерпев, не вынеся, он решился тайно высказать ее Кузнецову именно
здесь, а не в блиндаже.
— Что, Чибисов? Что вы хотели сказать?
— Товарищ лейтенант… извините вы меня, за-ради Бога… — заговорил Чибисов с
обрывающими дыхание слезами в голосе. — Не совладал я с собой, не совладал… Совестно
мне… Что ж делать-то мне? Товарищ лейтенант, не хотел я. Страх был, страх, Го-осподи!
И он схватил за рукав Кузнецова, ткнулся в него губами, по-собачьи мелко
подергиваясь.
— Что вы? Сейчас же перестаньте! — сказал Кузнецов и вырвал руку. — Идите в
блиндаж и ухаживайте за ранеными. Идите, Чибисов, идите…
— Совестно мне, совестно. Век вас буду помнить, товарищ лейтенант. Убить меня
мало, убить на месте! Не совладал я…
«Что он? Скорей бы он уходил, скорей!»
— Идите в блиндаж. Идите, я сказал… что вы?
Снова шаги, хруп снега позади. Стукнула дверь. Тишина в блиндаже. Тишина на
берегу. Нигде ни единого выстрела. Белой зыбью скользила, приплясывала поземка по
иссиня-бледному катку стылой реки с черными впадинами огромных прорубей — в близких
полыньях, пробитых снарядами, мнилось, позванивали, сталкивались, терлись друг о друга
острые на слух осколки льдинок, как тогда, когда Зоя вызвала его из землянки расчета и он
провожал ее по берегу и не дошел до блиндажа.
Ах, какая тоска и пустота декабрьской ночи были в этой без единого выстрела тишине,
в этом заснеженном береге, без единого солдата, в этой поземке, позванивании льдинок, в
этих корявых ветвях ветел, врезанных в сумрак уже предрассветного воздуха, неживого,
серого, недвижного, и было невыносимо больно дышать на этом сковавшем все холоде! Он
стоял, закрыв глаза, опустив автомат к земле.
«Почему она сказала тогда: „Поцелуй меня, как сестру. У тебя ведь есть сестра?“ И что
ответил я? „У меня нет сестры!..“ Зачем я так сказал?»
Он подумал это, и показалось ему, что Зоя где-то здесь, рядом, что она жива и ничего