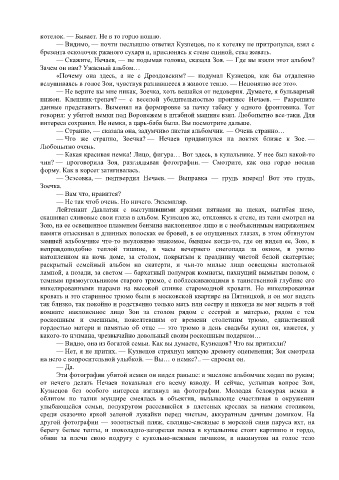Page 63 - Горячий снег
P. 63
котелок. — Бывает. Не в то горло пошло.
— Видимо, — почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся, взял с
брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать.
— Скажите, Нечаев, — не подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот альбом?
Зачем он вам? Ужасный альбом…
«Почему она здесь, а не с Дроздовским? — подумал Кузнецов, как бы отдаленно
вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло. — Непонятно все это».
— Не верите вы мне никак, Зоечка, хоть вешайся от недоверия. Думаете, я бульварный
пижон. Клешник-трепач? — с веселой убедительностью произнес Нечаев. — Разрешите
данные представить. Выменял на формировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот
говорил: у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно все-таки. Для
интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше.
— Странно, — сказала она, задумчиво листая альбомчик. — Очень странно…
— Что же странно, Зоечка? — Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое. —
Любопытно очень.
— Какая красивая немка! Лицо, фигура… Вот здесь, в купальнике. У нее был какой-то
чин? — проговорила Зоя, разглядывая фотографии. — Смотрите, как она гордо носила
форму. Как в корсет затягивалась.
— Эсэсовка, — подтвердил Нечаев. — Выправка — грудь вперед! Вот это грудь,
Зоечка.
— Вам что, нравится?
— Не так чтоб очень. Но ничего. Экземпляр.
Лейтенант Давлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею,
скашивал сливовые свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на
Зою, на ее освещенное пламенем бензина наклоненное лицо и с необъяснимым напряжением
памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах, в этом обтянутом
замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в
неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно
натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью;
раскрытый семейный альбом на скатерти, и чьи-то милые лица освещены настольной
лампой, а позади, за светом — бархатный полумрак комнаты, пахнущий вымытым полом, с
темным прямоугольником старого трюмо, с поблескивающими в таинственной глубине его
никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати. Но никелированная
кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой, и он мог видеть
так близко, так покойно и родственно только мать или сестру и никогда не мог видеть в той
комнате наклоненное лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью, рядом с тем
роскошным и смешным, пожелтевшим от времени столетним трюмо, единственной
гордостью матери и памятью об отце — это трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у
какого-то нэпмана, чрезвычайно довольный своим роскошным подарком…
— Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов? Что вы притихли?
— Нет, я не притих. — Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения; Зоя смотрела
на него с вопросительной улыбкой. — Вы… о немке?.. — спросил он.
— Да.
Эти фотографии убитой немки он видел раньше: в эшелоне альбомчик ходил по рукам;
от нечего делать Нечаев показывал его всему взводу. И сейчас, услышав вопрос Зои,
Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в
облитом по талии мундире смеялась в объектив, вызывающе счастливая в окружении
улыбающейся семьи, полукругом рассевшейся в плетеных креслах за низким столиком,
среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На
другой фотографии — золотистый пляж, слепяще-снежные в морской сини паруса яхт, на
берегу белые тенты, и шоколадно-загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо,
обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком, в накинутом на голое тело