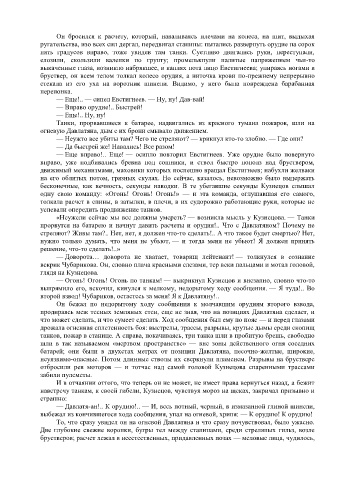Page 89 - Горячий снег
P. 89
Он бросился к расчету, который, наваливаясь плечами на колеса, на шит, выдыхая
ругательства, изо всех сил дергал, передвигал станины: пытались развернуть орудие на сорок
пять градусов вправо, тоже увидев там танки. Суетливо двигались руки, переступали,
елозили, скользили валенки по грунту; промелькнули налитые напряжением чьи-то
выкаченные глаза, возникло набрякшее, в каплях пота лицо Евстигнеева; упираясь ногами в
бруствер, он всем телом толкал колесо орудия, а ниточка крови по-прежнему непрерывно
стекала из его уха на воротник шинели. Видимо, у него была повреждена барабанная
перепонка.
— Еще!.. — сипел Евстигнеев. — Ну, ну! Дав-вай!
— Вправо орудие!.. Быстрей!
— Еще!.. Ну, ну!
Танки, прорвавшиеся к батарее, надвигались из красного тумана пожаров, шли на
огневую Давлатяна, дым с их брони смывало движением.
— Неужто все убиты там? Чего не стреляют? — крикнул кто-то злобно. — Где они?
— Да быстрей же! Навались! Все разом!
— Еще вправо!.. Еще! — осипло повторил Евстигнеев. Уже орудие было повернуто
вправо, уже подбивались бревна под сошники, и ствол быстро пополз над бруствером,
движимый механизмами, маховики которых поспешно вращал Евстигнеев; набухли желваки
на его облитых потом, грязных скулах. Но сейчас, казалось, невозможно было выдержать
бесконечные, как вечность, секунды наводки. В те убегавшие секунды Кузнецов слышал
одну свою команду: «Огонь! Огонь! Огонь!» — и эта команда, оглушавшая его самого,
толкала расчет в спины, в затылки, в плечи, в их судорожно работающие руки, которые не
успевали опередить продвижение танков.
«Неужели сейчас мы все должны умереть? — возникла мысль у Кузнецова. — Танки
прорвутся на батарею и начнут давить расчеты и орудия!.. Что с Давлатяном? Почему не
стреляют? Живы там?.. Нет, нет, я должен что-то сделать!.. А что такое будет смертью? Нет,
нужно только думать, что меня не убьют, — и тогда меня не убьют! Я должен принять
решение, что-то сделать!..»
— Доворота… доворота не хватает, товарищ лейтенант! — толкнулся в сознание
вскрик Чубарикова. Он, словно плача красными слезами, тер веки пальцами и мотал головой,
глядя на Кузнецова.
— Огонь! Огонь! Огонь по танкам! — выкрикнул Кузнецов и внезапно, словно что-то
выпрямило его, вскочил, кинулся к мелкому, недорытому ходу сообщения. — Я туда!.. Во
второй взвод! Чубариков, остаетесь за меня! Я к Давлатяну!..
Он бежал по недорытому ходу сообщения к молчавшим орудиям второго взвода,
продираясь меж тесных земляных стен, еще не зная, что на позициях Давлатяна сделает, и
что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс — и перед глазами
дрожала огненная сплетенность боя: выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ
танков, пожар в станице. А справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно
шли в так называемом «мертвом пространстве» — вне зоны действенного огня соседних
батарей; они были в двухстах метрах от позиции Давлатяна, песочно-желтые, широкие,
неуязвимо-опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем. Разрывы на бруствере
отбросили рев моторов — и тотчас над самой головой Кузнецова спаренными трассами
забили пулеметы.
И в отчаянии оттого, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит
навстречу танкам, к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и
страшно:
— Давлатя-ан!.. К орудию!.. — И, весь потный, черный, в измазанной глиной шинели,
выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой, хрипя: — К орудию! К орудию!
То, что сразу увидел он на огневой Давлатяна и что сразу почувствовал, было ужасно.
Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами, среди стреляных гильз, возле
брустверов; расчет лежал в неестественных, придавленных позах — меловые лица, чудилось,