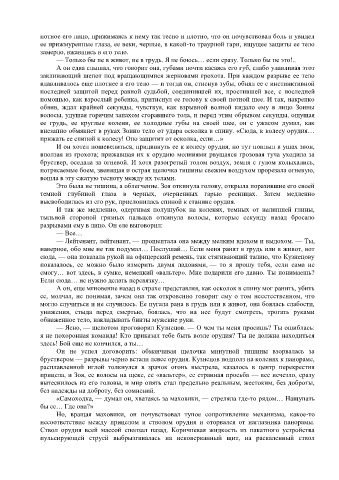Page 94 - Горячий снег
P. 94
потное его лицо, прижимаясь к нему так тесно и плотно, что он почувствовал боль и увидел
ее прижмуренные глаза, ее веки, черные, в какой-то траурной гари, ищущее защиты ее тело
замерло, вжавшись в его тело.
— Только бы не в живот, не в грудь. Я не боюсь… если сразу. Только бы не это!..
А он едва слышал, что говорит она, губами почти касаясь его губ, слабо улавливая этот
заклинающий шепот под вращающимися жерновами грохота. При каждом разрыве ее тело
вдавливалось еще плотнее в его тело — и тогда он, стиснув зубы, обнял ее с инстинктивной
последней защитой перед равной судьбой, соединившей их, простившей все, с последней
помощью, как взрослый ребенка, притиснул ее голову к своей потной шее. И так, накрепко
обняв, ждал крайней секунды, чувствуя, как взрывной волной кидало ему в лицо Зоины
волосы, удушая горячим запахом сгоравшего тола, и перед этим обрывом секунды, ощущая
ее грудь, ее круглые колени, ее холодные губы на своей шее, он с ужасом думал, как
внезапно обмякнет в руках Зоино тело от удара осколка в спину. «Сюда, к колесу орудия…
прижать ее спиной к колесу! Оно защитит от осколка, если…»
И он хотел пошевелиться, придвинуть ее к колесу орудия, но тут поплыл в ушах звон,
вползая из грохота; прижавшая их к орудию молниями рвущаяся грозовая туча уходила за
бруствер, оседала за огневой. И хотя разогретый толом воздух, земля с гулом колыхались,
потрясаемые боем, звенящая и острая щелочка тишины свежим воздухом прорезала огневую,
вошла в эту сжатую тесноту между их телами.
Это была не тишина, а облегчение. Зоя откинула голову, открыла поразившие его своей
темной глубиной глаза в черных, очерненных гарью ресницах. Затем медленно
высвободилась из его рук, прислонилась спиной к станине орудия.
И так же медленно, одергивая полушубок на коленях, темных от налипшей глины,
тыльной стороной грязных пальцев откинула волосы, которые секунду назад бросало
разрывами ему в лицо. Он еле выговорил:
— Все…
— Лейтенант, лейтенант, — прошептала она между мелким вдохом и выдохом. — Ты,
наверное, обо мне не так подумал… Послушай… Если меня ранят в грудь или в живот, вот
сюда, — она показала рукой на офицерский ремень, так стягивающий талию, что Кузнецову
показалось, ее можно было измерить двумя ладонями, — то я прошу тебя, если сама не
смогу… вот здесь, в сумке, немецкий «вальтер». Мне подарили его давно. Ты понимаешь?
Если сюда… не нужно делать перевязку…
А он, еще мгновение назад в страхе представляя, как осколок в спину мог ранить, убить
ее, молчал, не понимая, зачем она так откровенно говорит ему о том неестественном, что
могло случиться и не случилось. Ее пугала рана в грудь или в живот, она боялась слабости,
унижения, стыда перед смертью, боялась, что на нее будут смотреть, трогать руками
обнаженное тело, накладывать бинты мужские руки.
— Ясно, — шепотом проговорил Кузнецов. — О чем ты меня просишь? Ты ошиблась:
я не похоронная команда! Кто приказал тебе быть возле орудия? Ты не должна находиться
здесь! Бой еще не кончился, а ты…
Он не успел договорить: обманчивая щелочка минутной тишины взорвалась за
бруствером — разрывы черно встали левее орудия. Кузнецов подполз на коленях к панораме,
расплавленной иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела, казалось в центр перекрестия
прицела, и Зоя, ее волосы на щеке, ее «вальтер», ее странная просьба — все исчезло, сразу
вытеснилось из его головы, и мир опять стал предельно реальным, жестоким, без доброты,
без надежды на доброту, без сомнений.
«Самоходка, — думал он, хватаясь за маховики, — стреляла где-то рядом… Нащупать
бы ее… Где она?»
Но, вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма, какое-то
несоответствие между прицелом и стволом орудия и оторвался от наглазника панорамы.
Ствол орудия всей массой сползал назад. Коричневая жидкость из накатного устройства
пульсирующей струей выбрызгивалась на исковерканный щит, на раскаленный ствол