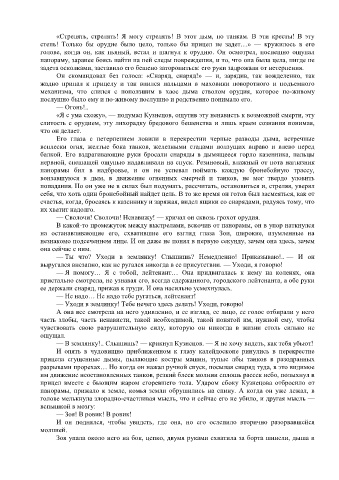Page 93 - Горячий снег
P. 93
«Стрелять, стрелять! Я могу стрелять! В этот дым, по танкам. В эти кресты! В эту
степь! Только бы орудие было цело, только бы прицел не задет…» — кружилось в его
голове, когда он, как пьяный, встал и шагнул к орудию. Он осмотрел, поспешно ощупал
панораму, заранее боясь найти на ней следы повреждения, и то, что она была цела, нигде не
задета осколками, заставило его бешено заторопиться: его руки задрожали от нетерпения.
Он скомандовал без голоса: «Снаряд, снаряд!» — и, зарядив, так вожделенно, так
жадно припал к прицелу и так впился пальцами в маховики поворотного и подъемного
механизма, что слился с поползшим в хаос дыма стволом орудия, которое по-живому
послушно было ему и по-живому послушно и родственно понимало его.
— Огонь!..
«Я с ума схожу», — подумал Кузнецов, ощутив эту ненависть к возможной смерти, эту
слитость с орудием, эту лихорадку бредового бешенства и лишь краем сознания понимая,
что он делает.
Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии черные разводы дыма, встречные
всплески огня, желтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед
балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло казенника, пальцы
нервной, спешащей ощупью надавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота наглазник
панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу,
вонзавшуюся в дым, в движение огненных смерчей и танков, не мог твердо уловить
попадания. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться и, стреляя, уверял
себя, что хоть один бронебойный найдет цель. В то же время он готов был засмеяться, как от
счастья, когда, бросаясь к казеннику и заряжая, видел ящики со снарядами, радуясь тому, что
их хватит надолго.
— Сволочи! Сволочи! Ненавижу! — кричал он сквозь грохот орудия.
В какой-то промежуток между выстрелами, вскочив от панорамы, он в упор наткнулся
на останавливающие его, схватившие его взгляд глаза Зои, широкие, изумленные на
незнакомо подсеченном лице. И он даже не понял в первую секунду, зачем она здесь, зачем
она сейчас с ним.
— Ты что? Уходи в землянку! Слышишь? Немедленно! Приказываю!.. — И он
выругался внезапно, как не ругался никогда в ее присутствии. — Уходи, я говорю!
— Я помогу… Я с тобой, лейтенант… Она придвигалась к нему на коленях, она
пристально смотрела, не узнавая его, всегда сдержанного, городского лейтенанта, а обе руки
ее держали снаряд, прижав к груди. И она насильно усмехнулась.
— Не надо… Не надо тебе ругаться, лейтенант!
— Уходи в землянку! Тебе нечего здесь делать! Уходи, говорю!
А она все смотрела на него удивленно, и ее взгляд, ее лицо, ее голос отбирали у него
часть злобы, часть ненависти, такой необходимой, такой понятой им, нужной ему, чтобы
чувствовать свою разрушительную силу, которую он никогда в жизни столь сильно не
ощущал.
— В землянку!.. Слышишь? — крикнул Кузнецов. — Я не хочу видеть, как тебя убьют!
И опять в чудовищно приближенном к глазу калейдоскопе ринулись в перекрестие
прицела сгущенные дымы, пылающие костры машин, тупые лбы танков в разодранных
разрывами прорехах… Но когда он нажал ручной спуск, посылая снаряд туда, в это видимое
им движение неостановленных танков, резкий блеск молнии сплошь рассек небо, полыхнул в
прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего тола. Ударом сбоку Кузнецова отбросило от
панорамы, прижало к земле, комья земли обрушились на спину. А когда он уже лежал, в
голове мелькнула злорадно-счастливая мысль, что и сейчас его не убило, и другая мысль —
вспышкой в мозгу:
— Зоя! В ровик! В ровик!
И он поднялся, чтобы увидеть, где она, но его ослепило вторично разорвавшейся
молнией.
Зоя упала около него на бок, цепко, двумя руками схватила за борта шинели, дыша в