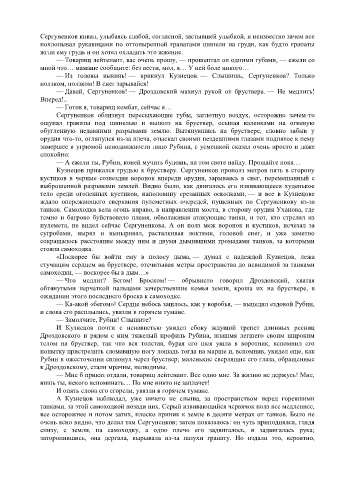Page 98 - Горячий снег
P. 98
Сергуненков кивал, улыбаясь слабой, согласной, застывшей улыбкой, и неизвестно зачем все
похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами шинели на груди, как будто гранаты
жгли ему грудь и он хотел охладить это жжение.
— Товарищ лейтенант, вас очень прошу, — прошептал он одними губами, — ежели со
мной что… мамаше сообщите: без вести, мол, я… У ней боле никого…
— Из головы выкинь! — крикнул Кузнецов. — Слышишь, Сергуненков? Только
ползком, ползком! В снег зарывайся!
— Давай, Сергуненков! — Дроздовский махнул рукой от бруствера. — Не медлить!
Вперед!..
— Готов я, товарищ комбат, сейчас я…
Сергуненков облизнул пересыхающие губы, заглотнул воздух, осторожно зачем-то
ощупал гранаты под шинелью и выполз на бруствер, осыпая валенками на огневую
обугленную недавними разрывами землю. Вытянувшись на бруствере, словно забыв у
орудия что-то, оглянулся из-за плеча, отыскал своими нездешними глазами поднятое к нему
замершее в угрюмой неподвижности лицо Рубина, с усмешкой сказал очень просто и даже
спокойно:
— А ежели ты, Рубин, коней мучить будешь, на том свете найду. Прощайте пока…
Кузнецов прижался грудью к брустверу. Сергуненков прополз метров пять в сторону
кустиков в черные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с
выброшенной разрывами землей. Видно было, как двигалось его извивающееся худенькое
тело среди оголенных кустиков, наполовину срезанных осколками, — и все в Кузнецове
ждало опережающего сверкания пулеметных очередей, пущенных по Сергуненкову из-за
танков. Самоходка вела огонь вправо, в направлении моста, в сторону орудия Уханова, где
темно и багрово буйствовало пламя, обволакивая атакующие танки, и тот, кто стрелял из
пулемета, не видел сейчас Сергуненкова. А он полз меж воронок и кустиков, исчезал за
сугробами, нырял и выныривал, расталкивая локтями, головой снег, и уже заметно
сокращалось расстояние между ним и двумя дымившими громадами танков, за которыми
стояла самоходка.
«Поскорее бы войти ему в полосу дыма, — думал с надеждой Кузнецов, лежа
стучащим сердцем на бруствере, отсчитывая метры пространства до невидимой за танками
самоходки, — поскорее бы в дым…»
— Что медлит? Бегом! Броском! — обрывисто говорил Дроздовский, хватая
обтянутыми перчаткой пальцами зачерствевшие комья земли, кроша их на бруствере, в
ожидании этого последнего броска к самоходке.
— Ка-акой «бегом»! Сердце небось зашлось, как у воробья, — выцедил ездовой Рубин,
и слова его расплылись, увязли в горячем тумане.
— Замолчите, Рубин! Слышите?
И Кузнецов почти с ненавистью увидел сбоку ждущий трепет длинных ресниц
Дроздовского и рядом с ним тяжелый профиль Рубина, плашмя легшего своим широким
телом на бруствер, так что вся толстая, бурая его шея ушла в воротник, вспомнил его
попытку пристрелить сломавшую ногу лошадь тогда на марше и, вспомнив, увидел еще, как
Рубин в ожесточении сплюнул через бруствер; маленькие сверлящие его глаза, обращенные
к Дроздовскому, стали мрачны, нелюдимы.
— Мне б приказ отдали, товарищ лейтенант. Все одно мне. За жизню не держусь! Мне,
вишь ты, некого вспоминать… По мне никто не заплачет!
И опять слова его сгорели, увязли в горячем тумане.
А Кузнецов наблюдал, уже ничего не слыша, за пространством перед горевшими
танками, за этой самоходкой позади них. Серый извивающийся червячок полз все медленнее,
все осторожнее и потом затих, плоско приник к земле в десяти метрах от танков. Было не
очень ясно видно, что делал там Сергуненков; затем показалось: он чуть приподнялся, глядя
снизу, с земли, на самоходку, а одно плечо его задвигалось, и задвигалась рука;
заторопившись, она дергала, вырывала из-за пазухи гранату. Но издали это, вероятно,