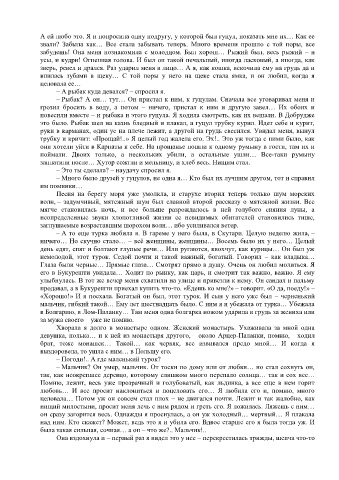Page 5 - Старуха Изергиль
P. 5
А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их… Как ее
звали? Забыла как… Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все
забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош… Рыжий был, весь рыжий – и
усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как
зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо… А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и
впилась зубами в щеку… С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я
целовала ее…
– А рыбак куда девался? – спросил я.
– Рыбак? А он… тут… Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и
грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел… Их обоих и
повесили вместе – и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже
это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит,
руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул
трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как
они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и
поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли… Все-таки румыну
заплатили после… Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.
– Это ты сделала? – наудачу спросил я.
– Много было друзей у гуцулов, не одна я… Кто был их лучшим другом, тот и справил
им поминки…
Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских
волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все
мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а
неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише,
заглушаемые возраставшим шорохом волн… ибо усиливался ветер.
– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, –
ничего… Но скучно стало… – всё женщины, женщины… Восемь было их у него… Целый
день едят, спят и болтают глупые речи… Или ругаются, квохчут, как курицы… Он был уж
немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как владыка…
Глаза были черные… Прямые глаза… Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я
его в Букурешти увидала… Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему
улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму
продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» –
«Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был – черненький
мальчик, гибкий такой… Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка… Убежала
в Болгарию, в Лом-Паланку… Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или
за мужа своего – уже не помню.
Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна
девушка, полька… и к ней из монастыря другого, – около Арцер-Паланки, помню, – ходил
брат, тоже монашек… Такой… как червяк, все извивался предо мной… И когда я
выздоровела, то ушла с ним… в Польшу его.
– Погоди!.. А где маленький турок?
– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви… но стал сохнуть он,
так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца… так и сох все…
Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит
любовь… И все просит наклониться и поцеловать его… Я любила его и, помню, много
целовала… Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и так жалобно, как
нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним…
он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный… мертвый… Я плакала
над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И
была такая сильная, сочная… а он – что же?.. Мальчик!..
Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча что-то