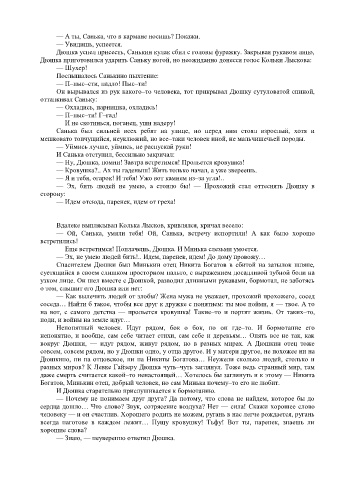Page 26 - Весенние перевертыши
P. 26
— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.
— Увидишь, успеется.
Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо,
Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:
— Шухер!
Послышалось Санькино пыхтение:
— П–пыс–сти, падло! Пыс–ти!
Он вырывался из рук какого–то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной,
отталкивал Саньку:
— Охладись, парнишка, охладись!
— П–пыс–ти! Г–гад!
— И не скотинься, поганец, уши надеру!
Санька был сильней всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и
мешковато топчущийся, неуклюжий, но все–таки человек иной, не мальчишечьей породы.
— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!
И Санька отступил, бессильно закричал:
— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Прольется кровушка!
— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.
— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из–за угла!..
— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал оттеснять Дюшку в
сторону:
— Идем отсюда, паpeнек, идем от греха!
Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:
— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо
встретились!
— Еще встретимся! Поплачешь, Дюшка. И Минька слезьми умоется.
— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провожу…
Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе,
суетящийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на
узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь
о том, слышит его Дюшка или нет:
— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед
соседа… Найти б такое, чтобы все друг к дружке с понятием: ты мое пойми, я — твое. А то
на вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие–то и портят жизнь. От таких–то,
поди, и войны на земле идут…
Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где–то. И бормотание его
непонятно, и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям… Опять все не так, как
вокруг Дюшки, — идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже
совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на
Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова… Неужели сколько людей, столько и
разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть–чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там
даже смерть считается какой–то ненастоящей… Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита
Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему–то его не любит.
И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.
— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до
сердца дошло… Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово
человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань
всегда наготове в каждом лежит… Пущу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли
хорошие слова?
— Знаю, — неуверенно ответил Дюшка.