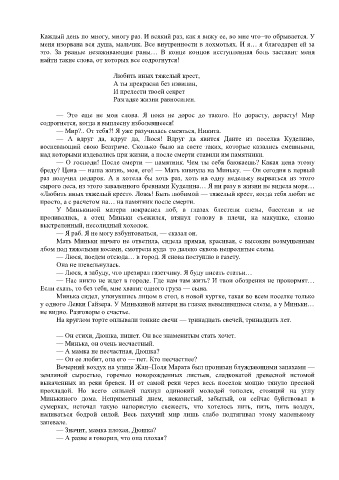Page 31 - Весенние перевертыши
P. 31
Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что–то обрывается. У
меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я… я благодарен ей за
это. За рваные незаживающие раны… В конце концов исступленная боль заставит меня
найти такие слова, от которых все содрогнутся!
Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
— Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир
содрогнется, когда я выплесну изболевшееся!
— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.
— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино,
воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными,
над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.
— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому
бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку. — Он сегодня в первый
раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого
сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина… Я ни разу в жизни не видела моря…
«Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не
просто, а с расчетом на… на памятник после смерти.
У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не
проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно
выстреленный, несолидный хохолок.
— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.
Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным
лбом под тяжелыми косами, смотрела куда–то далеко сквозь непролитые слезы.
— Люся, поедем отсюда… в город. Я снова поступлю в газету.
Она не шевельнулась.
— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи…
— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят…
Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.
Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только
у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки…
не видно. Разговоры о счастье.
На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.
— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.
— Минька, он очень несчастный.
— А мамка не несчастная, Дюшка?
— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?
Вечерний воздух на улице Жан–Поля Марата был пронизан блуждающими запахами —
земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой
выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной
прохладой. Но всего сильней пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу
Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в
сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух,
наливаться бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому
запевале.
— Значит, мамка плохая, Дюшка?
— А разве я говорил, что она плохая?