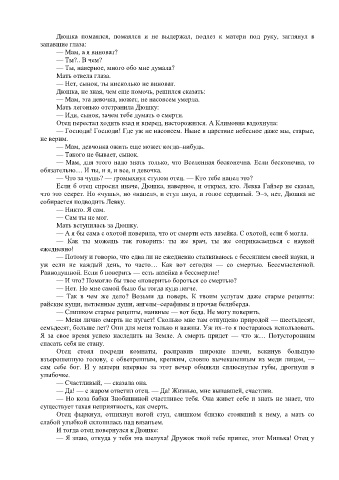Page 28 - Весенние перевертыши
P. 28
Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в
запавшие глаза:
— Мам, а я виноват?
— Ты?.. В чем?
— Ты, наверное, много обо мне думала?
Мать отвела глаза.
— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.
Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:
— Мам, эта девочка, может, не насовсем умерла.
Мать легонько отстранила Дюшку:
— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.
Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился. А Климовна вздохнула:
— Господи! Господи! Где уж не насовсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые,
не верим.
— Мам, девчонка ожить еще может когда–нибудь.
— Такого не бывает, сынок.
— Мам, для этого надо знать только, что Вселенная бесконечна. Если бесконечна, то
обязательно… И ты, и я, и все, и девочка.
— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе напел это?
Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл, кто. Левка Гайзер не сказал,
что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э–э, нет, Дюшка не
собирается подводить Левку.
— Никто. Я сам.
— Сам ты не мог.
Мать вступилась за Дюшку.
— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка. С охотой, если б могла.
— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой
ежедневно!
— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и
уж если не каждый день, то часто… Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной.
Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!
— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?
— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.
— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты:
райские кущи, нетленные души, ангелы–серафимы и прочая белиберда.
— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.
— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят,
семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их–то я постараюсь использовать.
Я за свое время успею наследить на Земле. А смерть придет — что ж… Потусторонним
спасать себя не стану.
Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую
взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом, —
сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в
улыбочке.
— Счастливый, — сказала она.
— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлив.
— Но коза бабки Знобишиной счастливее тебя. Она живет себе и знать не знает, что
существует такая неприятность, как смерть.
Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со
слабой улыбкой склонилась над вязаньем.
И тогда отец повернулся к Дюшке:
— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у