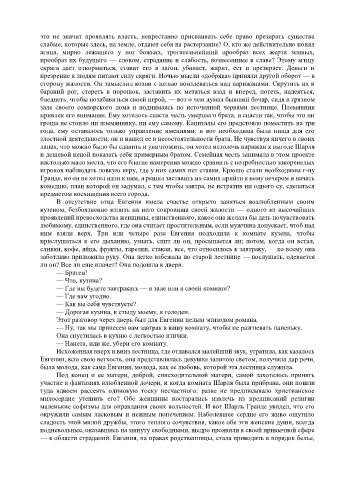Page 45 - Евгения Гранде
P. 45
это не значит проявлять власть, непрестанно присваивать себе право презирать существа
слабые, которые здесь, на земле, отдают себя на растерзание? О, кто же действительно понял
агнца, мирно лежащего у ног божьих, трогательнейший прообраз всех жертв земных,
прообраз их будущего — словом, страдание и слабость, вознесенные в славе? Этому агнцу
скряга дает откормиться, ставит его в загон, убивает, жарит, ест и презирает. Деньги и
презрение к людям питают силу скряги. Ночью мысли «добряка» приняли другой оборот — в
сторону жалости. Он замыслил козни с целью поиздеваться над парижанами. Скрутить их в
бараний рог, стереть в порошок, заставить их метаться взад и вперед, потеть, надеяться,
бледнеть, чтобы позабавиться своей игрой, — вот о чем думал бывший бочар, сидя в грязном
зале своего сомюрского дома и поднимаясь по источенной червями лестнице. Племянник
привлек его внимание. Ему хотелось спасти честь умершего брата, и спасти так, чтобы это ни
гроша не стоило ни племяннику, ни ему самому. Капиталы его предстояло поместить на три
года, ему оставалось только управление имениями; и вот необходима была пища для его
злостной деятельности; он и нашел ее в несостоятельности брата. Не чувствуя ничего в своих
лапах, что можно было бы сдавить и уничтожить, он хотел истолочь парижан к выгоде Шарля
и дешевой ценой показать себя примерным братом. Семейная честь занимала в этом проекте
настолько мало места, что его благие намерения можно сравнить с потребностью закоренелых
игроков наблюдать ловкую игру, где у них самих нет ставки. Крюшо стали необходимы г-ну
Гранде, но он не хотел идти к ним, а решил заставить их самих прийти к нему вечером и начать
комедию, план которой он задумал, с тем чтобы завтра, не истратив ни одного су, сделаться
предметом восхищения всего города.
В отсутствие отца Евгения имела счастье открыто заняться возлюбленным своим
кузеном, безбоязненно излить на него сокровища своей жалости — одного из высочайших
проявлений превосходства женщины, единственного, какое она желала бы дать почувствовать
любимому, единственного, где она считает простительным, если мужчина допускает, чтоб над
ним взяли верх. Три или четыре раза Евгения подходила к комнате кузена, чтобы
прислушаться к его дыханию, узнать, спит ли он, просыпается ли; потом, когда он встал,
сливки, кофе, яйца, фрукты, тарелки, стакан, все, что относилось к завтраку, — ко всему она
заботливо приложила руку. Она легко взбежала по старой лестнице — послушать, одевается
ли он? Все ли еще плачет? Она подошла к двери.
— Братец!
— Что, кузина?
— Где вы будете завтракать — в зале или в своей комнате?
— Где вам угодно.
— Как вы себя чувствуете?
— Дорогая кузина, к стыду моему, я голоден.
Этот разговор через дверь был для Евгении целым эпизодом романа.
— Ну, так мы принесем вам завтрак в вашу комнату, чтобы не разгневать папеньку.
Она спустилась в кухню с легкостью птички.
— Нанета, иди же, убери его комнату.
Исхоженная вверх и вниз лестница, где отдавался малейший звук, утратила, как казалось
Евгении, всю свою ветхость, она представлялась девушке залитою светом, получила дар речи,
была молода, как сама Евгения, молода, как ее любовь, которой эта лестница служила.
Под конец и ее матери, доброй, снисходительной матери, самой захотелось принять
участие в фантазиях влюбленной дочери, и когда комната Шарля была прибрана, они пошли
туда вдвоем рассеять одинокую тоску несчастного: разве не предписывало христианское
милосердие утешить его? Обе женщины постарались извлечь из предписаний религии
маленькие софизмы для оправдания своих вольностей. И вот Шарль Гранде увидел, что его
окружили самым ласковым и нежным попечением. Наболевшее сердце его живо ощутило
сладость этой милой дружбы, этого теплого сочувствия, какое обе эти женские души, всегда
подневольные, оказавшись на минуту свободными, щедро проявили в своей привычной сфере
— в области страданий. Евгения, на правах родственницы, стала приводить в порядок белье,