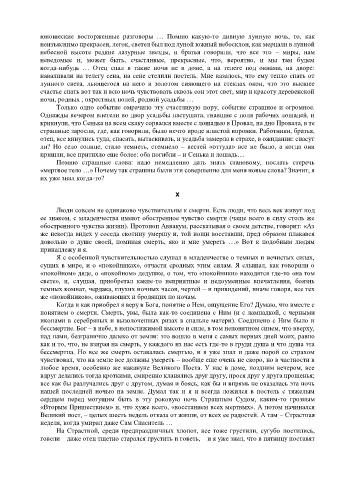Page 10 - Жизнь Арсеньева
P. 10
юношеские восторженные разговоры … Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как
неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной
небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это – миры, нам
неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем
когда-нибудь … Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе:
наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от
лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее
счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской
ночи, родных , окрестных полей, родной усадьбы …
Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное.
Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и
крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в Провал, на дно Провала, в те
страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья,
отец, все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут
ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело – вестей «оттуда» все не было, а когда они
пришли, все притихло еще более: оба погибли – и Сенька и лошадь…
Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь
«мертвое тело …» Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я
их уже знал когда-то?
x
Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под
ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же
обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз
же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався
довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть …» Вот к подобным людям
принадлежу и я.
Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах,
сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о
«покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том
свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь
темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей – и привидений, иначе говоря, все тех
же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.
Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с
понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными
иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и
бессмертие. Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху,
над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно
как и то, что, не взирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта
бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом
чувствовал, что на земле все должны умереть – вообще еще очень не скоро, но в частности в
любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме, поздним вечером, все
вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощенья;
все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь
нашей последней ночью на земле. Думал так и я и всегда ложился в постель с тяжелым
сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь Страшным Судом, каким-то грозным
«Вторым Пришествием» и, что хуже всего, «восстанием всех мертвых». А потом начинался
Великий пост, – целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там – Страстная
неделя, когда умирал даже Сам Спаситель …
На Страстной, среди предпраздничных хлопот, все тоже грустили, сугубо постились,
говели – даже отец тщетно старался грустить и говеть, – и я уже знал, что в пятницу поставят