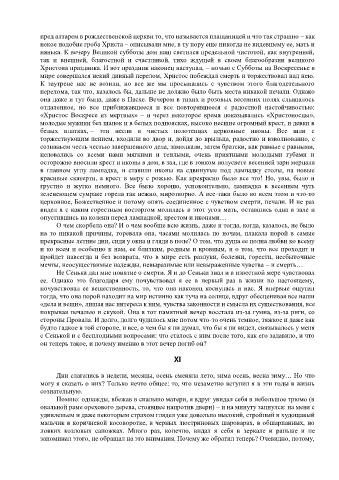Page 11 - Жизнь Арсеньева
P. 11
пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей и что так страшно – как
некое подобие гроба Христа – описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и
нянька. К вечеру Великой субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней,
так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого
Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, – ночью с Субботы на Воскресенье в
мире совершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею.
К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного
перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако
она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось
отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью:
«Христос Воскресе из мертвых» – и через некоторое время показывались «Христоносцы»,
молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в
белых платках, – эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с
торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с
сознаньем честь честью завершенного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными,
целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и
осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала
в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые
красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и
грустно и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, лампадка в весеннем чуть
зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то
церковное, Божественное и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз
видел я с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и
опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами…
О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было
на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые
прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему
и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и
пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные
мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства – и смерть…
Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал
ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по настоящему,
почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил
тогда, что она порой находит на мир истинно как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши
«дела и вещи», лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все
покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за риги, со
стороны Провала. И долго, долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как
будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня
с Сенькой и с бесплодными вопросами: что сталось с ним после того, как его задавило, и что
он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он?
XI
Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму… Но что
могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь
сознательную.
Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо (в
овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с
удивленьем и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый
мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но
ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не
запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому,