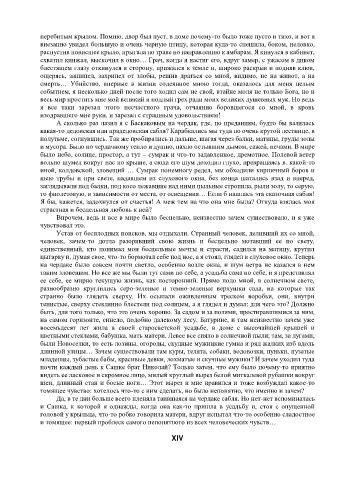Page 14 - Жизнь Арсеньева
P. 14
перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я
внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко,
распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет,
схватил кинжал, выскочил в окно… Грач, когда я настиг его, вдруг замер, с ужасом в диком
блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв,
ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на
смерть… Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым
событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и
весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь
я все таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь
изодравшего мне руки, и зарезал с страшным удовольствием!
А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где, по преданиям, будто бы валялась
какая-то дедовская или прадедовская сабля? Карабкались мы туда по очень крутой лестнице, в
полутьме, согнувшись. Так же пробирались и дальше, шагая через балки, матицы, груды золы
и мусора. Было по чердачному тепло и душно, пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире
было небо, солнце, простор, а тут – сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер
вольно шумел вокруг нас по крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в. какой-то
иной, колдовской, зловещий … Сумрак понемногу редел, мы обходили кирпичный боров и
шею трубы и при свете, падавшем из слухового окна, без конца шатались взад и вперед,
заглядывали под балки, под косо лежавшие над ними пыльные стропила, рыли золу, то серую,
то фиолетовую, в зависимости от места, от освещения… Если б нашлась эта сказочная сабля!
Я бы, кажется, задохнулся от счастья! А меж тем на что она мне была? Откуда взялась моя
страстная и бесцельная любовь к ней?
Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже
чувствовал это.
Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Странный человек, деливший их со мной,
человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету,
единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил
цыгарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь
на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем
таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял
ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной, в солнечном свете,
разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так
странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробьи, они, внутри
тенистые, сверху стеклянно блестели под солнцем, а я глядел и думал: для чего это? Должно
быть, для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ним,
на самом горизонте, синело, подобно далекому лесу, Батурине, и там неизвестно зачем уже
восемьдесят лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и
цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли; там, за лугами,
были Новоселки, то есть лозины, огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких изб вдоль
длинной улицы… Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые
младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда
почти каждый день к Сашке брат Николай? Только затем, что ему было почему-то приятно
видеть ее ласковое и скромное лицо, милый круглый вырез белой миткалевой рубашки вокруг
шеи, длинный стан и босые ноги… Этот вырез и мне нравился и тоже возбуждал какое-то
томящее чувство: хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем?
Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля. Но нет-нет вспоминалась
и Сашка, к которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной
головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное
и томящее: первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств…
XIV