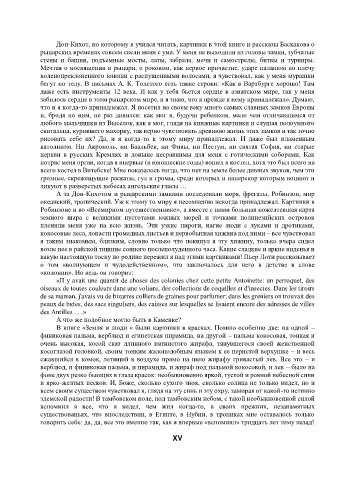Page 15 - Жизнь Арсеньева
P. 15
Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о
рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые
стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры.
Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу
коленопреклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки
бегут по телу. В письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там
даже есть инструменты 12 века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня
забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю,
что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы
и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от
любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного
скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно
рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным
католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые
церкви в русских Кремлях и доныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как
потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего на
всего костел в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти
грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и
ликуют в разверстых небесах ангельские гласы …
А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир
океанский, тропический. Уж к этому то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в
Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта
земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов
пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками,
кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – все чувствовал
я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел
возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и
какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! Пьер Лоти рассказывает
о том «волнующем и чудодейственном», что заключалось для него в детстве в слове
«колонии». Но ведь он говорит:
«II y avait une quantit de choses des colonies chez cette petite Antoinette: un perroquet, des
oiseaux de toutes couleurs dans une voliиre, des collections de coquilles et d'insectes. Dans les tiroirs
de sa maman, j'avais vu de bizarres colliers de graines pour parfumer; dans les greniers on trouvait des
peaux de bкtes, des sacs singuliers, des caisses sur lesquelles se lisaient encore des adresses de villes
des Antilles . . .»
A что же подобное могло быть в Каменке?
В книге «Земля и люди « были картинки в красках. Помню особенно две: на одной –
финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и
очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной
косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке – и весь
сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это – и
верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на
фоне двух резко бьющих в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини
и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и
всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно
эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой
вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных
существованьях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только
говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!
XV