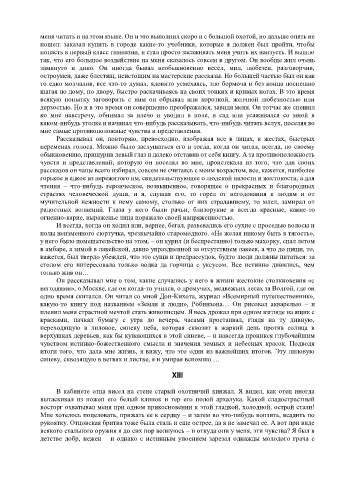Page 13 - Жизнь Арсеньева
P. 13
меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не
пошел: заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы
попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло
так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень
замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив,
остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как
то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча и без конца поспешно
шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время
всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой, желчной любезностью или
дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил
ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад или усаживался со мной в
каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во
мне самые противоположные чувства и представления.
Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых
переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда, по своему
обыкновению, прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность
чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих
рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее
горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для
чтения – что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных
страстях человеческой души, и я, слушая его, то горел от негодования к людям и от
мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от
радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то
огненно-карие, выраженье лица поражало своей напряженностью.
И всегда, когда он ходил или, вернее, бегал, развевались его сухие с проседью волосы и
полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. «Не желая никому быть в тягость»,
у него было помешательство на этом, – он курил (и беспрестанно) только махорку, спал летом
в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев, а что до пищи, то,
кажется, был твердо убежден, что это сущи и предрассудок, будто люди должны питаться: за
столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем
только жив он…
Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения «с
негодяями», о Москве, где он когда-то учился, о дремучих, медвежьих лесах за Волгой, где он
одно время скитался. Он читал со мной Дон-Кихота, журнал «Всемирный путешественник»,
какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона… Он рисовал акварелью – и
пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с
красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную,
переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в
верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим
чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя
итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую
синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню …
XIII
В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда
вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой сладострастный
восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали!
Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу – и затем во что-нибудь вонзить, всадить по
рукоятку. Отцовская бритва тоже была сталь и еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде
всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь – и откуда они у меня, эти чувства? Я был в
детстве добр, нежен – и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с