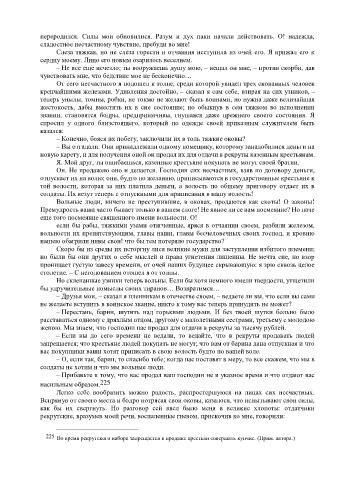Page 92 - Путешествие из Петербурга в Москву
P. 92
переродился. Силы мои обновилися. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда,
сладостное несчастному чувствие, пребуди во мне!
Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния исступила из очей его. Я прижал его к
сердцу моему. Лицо его новым озарилось веселием.
– Не все еще исчезло; ты вооружаешь душу мою, – вещал он мне, – против скорби, дав
чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно…
От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек
крепчайшими железами. Удивления достойно, – сказал я сам себе, взирая на сих узников, –
теперь унылы, томны, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая
жестокость, дабы вместить их в сие состояние; но обыкнув в сем тяжком во исполнении
звании, становятся бодры, предприимчивы, гнушаяся даже прежнего своего состояния. Я
спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть
казался:
– Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы?
– Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому занадобилися деньги на
новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.
Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.
Он. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги,
отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к
той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в
солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость!
Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы!
Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче
еще того посмеяние священного имени вольности. О!
если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом,
вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию
нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство?
Скоро бы из среды их исторгну лися великие мужи для заступления избитого племени;
но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. Не мечта сие, но взор
проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое
столетие. – С негодованием отошел я от толпы.
Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщетили
бы удручительные помыслы своих тиранов… Возвратимся…
– Друзья мои, – сказал я пленникам в отечестве своем, – ведаете ли вы, что если вы сами
не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может?
– Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было
расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетными сестрами, третьему с молодою
женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей.
– Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей
запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпускная и что
вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость будто по вашей воле.
– О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в
солдаты не хотим и что мы вольные люди.
– Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдают вас
насильным образом. 225
Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных.
Вспрянув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалося, что испытывают свои силы,
как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики
рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили:
225 Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие. (Прим. автора.)