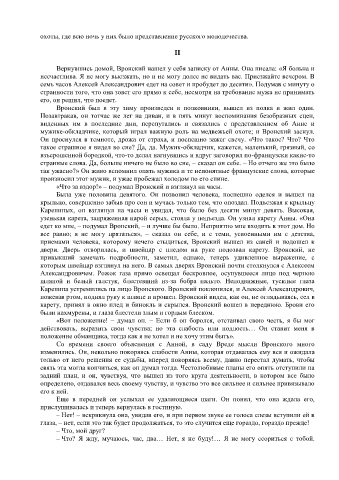Page 207 - Анна Каренина
P. 207
охоты, где всю ночь у них было представление русского молодечества.
II
Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и
несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В
семь часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти». Подумав с минуту о
странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать
его, он решил, что поедет.
Вронский был в эту зиму произведен в полковники, вышел из полка и жил один.
Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен,
виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и
мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул.
Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что
такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со
взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то
странные слова. Да, больше ничего не было во сне, – сказал он себе. – Но отчего же это было
так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые
произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине.
«Что за вздор!» – подумал Вронский и взглянул на часы.
Была уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на
крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу
Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было без десяти минут девять. Высокая,
узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она
едет ко мне, – подумал Вронский, – и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом. Но
все равно; я не могу прятаться», – сказал он себе, и с теми, усвоенными им с детства,
приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к
двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не
привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с
которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем
Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черною
шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза
Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович,
пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в
карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его
были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском.
«Вот положение! – думал он. – Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог
действовать, выразить свои чувства; но эта слабость или подлость… Он ставит меня в
положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть».
Со времени своего объяснения с Анной, в саду Вреде мысли Вронского много
изменились. Он, невольно покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала
только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы
связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на
задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было
определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало
его к ней.
Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его,
прислушивалась и теперь вернулась в гостиную.
– Нет! – вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в
глаза, – нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!
– Что, мой друг?
– Что? Я жду, мучаюсь, час, два… Нет, я не буду!… Я не могу ссориться с тобой.