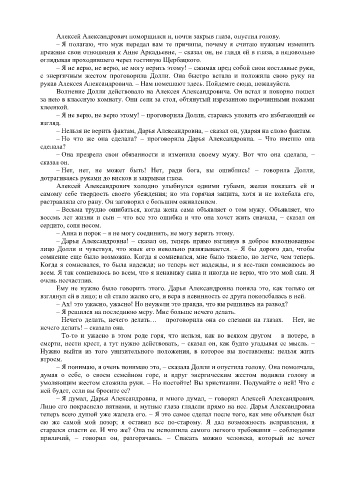Page 229 - Анна Каренина
P. 229
Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову.
– Я полагаю, что муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить
прежние свои отношения к Анне Аркадьевне, – сказал он, не глядя ей в глаза, а недовольно
оглядывая проходившего через гостиную Щербацкого.
– Я не верю, не верю, не могу верить этому! – сжимая пред собой свои костлявые руки,
с энергичным жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на
рукав Алексея Александровича. – Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста.
Волнение Долли действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел
за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанною перочинными ножами
клеенкой.
– Я не верю, не верю этому! – проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее
взгляд.
– Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна, – сказал он, ударяя на слово фактам.
– Но что же она сделала? – проговорила Дарья Александровна. – Что именно она
сделала?
– Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала, –
сказал он.
– Нет, нет, не может быть! Нет, ради бога, вы ошиблись! – говорила Долли,
дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза.
Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и
самому себе твердость своего убеждения; но эта горячая защита, хотя и не колебала его,
растравляла его рану. Он заговорил с большим оживлением.
– Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу. Объявляет, что
восемь лет жизни и сын – что все это ошибка и что она хочет жить сначала, – сказал он
сердито, сопя носом.
– Анна и порок – я не могу соединить, не могу верить этому.
– Дарья Александровна! – сказал он, теперь прямо взглянув в доброе взволнованное
лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается. – Я бы дорого дал, чтобы
сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь.
Когда я сомневался, то была надежда; но теперь нет надежды, и я все-таки сомневаюсь во
всем. Я так сомневаюсь во всем, что я ненавижу сына и иногда не верю, что это мой сын. Я
очень несчастлив.
Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он
взглянул ей в лицо; и ей стало жалко его, и вера в невинность ее друга поколебалась в ней.
– Ах! это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод?
– Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать.
– Нечего делать, нечего делать… – проговорила она со слезами на глазах. – Нет, не
нечего делать! – сказала она.
– То-то и ужасно в этом роде горя, что нельзя, как во всяком другом – в потере, в
смерти, нести крест, а тут нужно действовать, – сказал он, как будто угадывая ее мысль. –
Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены: нельзя жить
втроем.
– Я понимаю, я очень понимаю это, – сказала Долли и опустила голову. Она помолчала,
думая о себе, о своем семейном горе, и вдруг энергическим жестом подняла голову и
умоляющим жестом сложила руки. – Но постойте! Вы христианин. Подумайте о ней! Что с
ней будет, если вы бросите ее?
– Я думал, Дарья Александровна, и много думал, – говорил Алексей Александрович.
Лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на нее. Дарья Александровна
теперь всею душой уже жалела его. – Я это самое сделал после того, как мне объявлен был
ею же самой мой позор; я оставил все по-старому. Я дал возможность исправления, я
старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования – соблюдения
приличий, – говорил он, разгорячаясь. – Спасать можно человека, который не хочет