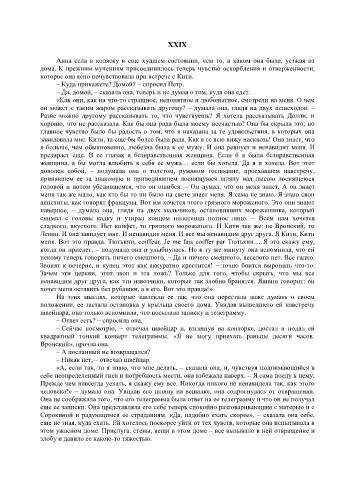Page 440 - Анна Каренина
P. 440
XXIX
Анна села в коляску в еще худшем состоянии, чем то, в каком она была, уезжая из
дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство оскорбления и отверженности,
которое она ясно почувствовала при встрече с Кити.
– Куда прикажете? Домой? – спросил Петр.
– Да, домой, – сказала она, теперь и не думая о том, куда она едет.
«Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на меня. О чем
он может с таким жаром рассказывать другому? – думала она, глядя на двух пешеходов. –
Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и
хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но
главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она
завидовала мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь! Она знает, что
я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу. И она ревнует и ненавидит меня. И
презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. Если б я была безнравственная
женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа… если бы хотела. Да я и хотела. Вот этот
доволен собой, – подумала она о толстом, румяном господине, проехавшем навстречу,
принявшем ее за знакомую и приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящеюся
головой и потом убедившемся, что он ошибся. – Он думал, что он меня знает. А он знает
меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои
аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают
наверное, – думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженника, который
снимал с головы кадку и утирал концом полотенца потное лицо. – Всем нам хочется
сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, то
Левин. И она завидует мне. И ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити
меня. Вот это правда. Тютькин, coiffeur. Je me fais coiffer par Тютькин… Я это скажу ему,
когда он приедет, – подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей
некому теперь говорить ничего смешного. – Да и ничего смешного, веселого нет. Все гадко.
Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится! – точно боится выронить что-то.
Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все
ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся. Яшвин говорит: он
хочет меня оставить без рубашки, а я его. Вот это правда!»
На этих мыслях, которые завлекли ее так, что она перестала даже думать о своем
положении, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидав вышедшего ей навстречу
швейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму.
– Ответ есть? – спросила она.
– Сейчас посмотрю, – отвечал швейцар и, взглянув на конторке, достал и подал ей
квадратный тонкий конверт телеграммы. «Я не могу приехать раньше десяти часов.
Вронский», прочла она.
– А посланный не возвращался?
– Никак нет, – отвечал швейцар.
«А, если так, то я знаю, что мне делать, – сказала она, и, чувствуя поднимающийся в
себе неопределенный гнев и потребность мести, она взбежала наверх. – Я сама поеду к нему.
Прежде чем навсегда уехать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого
человека!» – думала она. Увидав его шляпу на вешалке, она содрогнулась от отвращения.
Она не соображала того, что его телеграмма была ответ на ее телеграмму и что он не получал
еще ее записки. Она представляла его себе теперь спокойно разговаривающим с матерью и с
Сорокиной и радующимся ее страданиям. «Да, надобно ехать скорее», – сказала она себе,
еще не зная, куда ехать. Ей хотелось поскорее уйти от тех чувств, которые она испытывала в
этом ужасном доме. Прислуга, стены, вещи в этом доме – все вызывало в ней отвращение и
злобу и давило ее какою-то тяжестью.