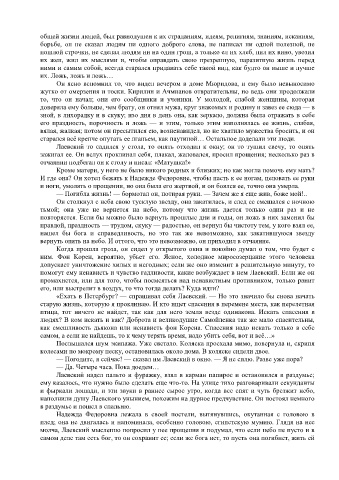Page 47 - Дуэль
P. 47
общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям,
борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не
пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил
их жен, жил их мыслями и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед
ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше
их. Ложь, ложь и ложь…
Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо
жутко от омерзения и тоски. Кирилин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали
то, что он начал; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая
доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в
зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе
его праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая,
вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он
старался всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной… Остальное доделали эти люди.
Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну; он то тушил свечу, то опять
зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения; несколько раз в
отчаянии подбегал он к столу и писал: «Матушка!»
Кроме матери, у него не было никого родных и близких; но как могла помочь ему мать?
И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки
и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла.
— Погибла жизнь! — бормотал он, потирая руки. — Зачем же я еще жив, боже мой!..
Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночною
тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не
повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы
правдой, праздность — трудом, скуку — радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее,
нашел бы бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду
вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, он приходил в отчаяние.
Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с
ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека
допускает уничтожение хилых и негодных; если же оно изменит в решительную минуту, то
помогут ему ненависть и чувство гадливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он
промахнется, или для того, чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит
его, или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти?
«Ехать в Петербург? — спрашивал себя Лаевский. — Но это значило бы снова начать
старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелетная
птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасения в
людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны,
как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасения надо искать только в себе
самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и всё…»
Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя
колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое.
— Погодите, я сейчас! — сказал им Лаевский в окно. — Я не сплю. Разве уже пора?
— Да. Четыре часа. Пока доедем…
Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье;
ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты
и фыркали лошади, и эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо,
наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного
в раздумье и пошел в спальню.
Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в
плед; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумию. Глядя на нее
молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в
самом деле там есть бог, то он сохранит ее; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей