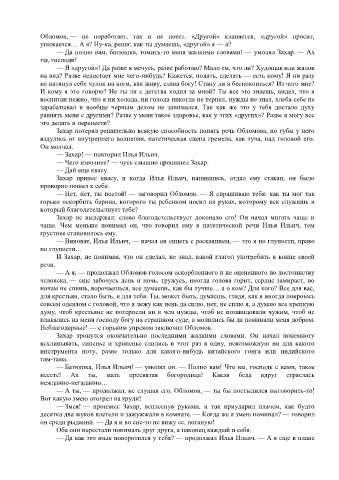Page 51 - Обломов
P. 51
Обломов, — не поработает, так и не поест. «Другой» кланяется, «другой» просит,
унижается… А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я — а?
— Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! — умолял Захар. — Ах
ты, господи!
— Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок
на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни разу
не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне?
И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я
воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не
зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу
равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих «других»? Разве я могу все
это делать и перенести?
Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова, но губы у него
вздулись от внутреннего волнения, патетическая сцена гремела, как туча, над головой его.
Он молчал.
— Захар! — повторил Илья Ильич.
— Чего изволите? — чуть слышно прошипел Захар.
— Дай еще квасу.
Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было
проворно пошел к себе.
— Нет, нет, ты постой! — заговорил Обломов. — Я спрашиваю тебя: как ты мог так
горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и
который благодетельствует тебе?
Захар не выдержал: слово благодетельствует доконало его! Он начал мигать чаще и
чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем
грустнее становилось ему.
— Виноват, Илья Ильич, — начал он сипеть с раскаянием, — это я по глупости, право
по глупости…
И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей
речи.
— А я, — продолжал Обломов голосом оскорбленного и не оцененного по достоинству
человека, — еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по
ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше… а о ком? Для кого? Все для вас,
для крестьян, стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь
совсем одеялом с головой, что я лежу как пень да сплю, нет, не сплю я, а думаю все крепкую
думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не
плакались на меня господу богу на страшном суде, а молились бы да поминали меня добром.
Неблагодарные! — с горьким упреком заключил Обломов.
Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу
всхлипывать, сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого
инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского
там-тама.
— Батюшка, Илья Ильич! — умолял он. — Полно вам! Что вы, господь с вами, такое
несете! Ах ты, мать пресвятая богородица! Какая беда вдруг стряслась
нежданно-негаданно…
— А ты, — продолжал, не слушая его, Обломов, — ты бы постыдился выговорить-то!
Вот какую змею отогрел на груди!
— Змея! — произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто
десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. — Когда же я змею поминал? — говорил
он среди рыданий. — Да я и во сне-то не вижу ее, поганую!
Оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждый и себя.
— Да как это язык поворотился у тебя? — продолжал Илья Ильич. — А я еще в плане