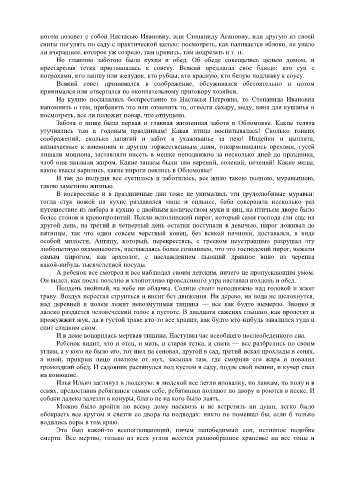Page 61 - Обломов
P. 61
потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей
свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало
ли вчерашнее, которое уж созрело, там привить, там подрезать и т. п.
Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом, и
престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с
потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.
Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом
принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.
На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна
напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и
посмотреть, все ли положит повар, что отпущено.
Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята
утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких
соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята,
назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей
лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника,
чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды,
какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!
И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною,
такою заметною жизнью.
В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи:
тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее, баба совершала несколько раз
путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц, на птичьем дворе было
более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на
другой день, на третий и четвертый день остатки поступали в девичью, пирог доживал до
пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде
особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту
любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели
самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка
какой-нибудь тысячелетней посуды.
А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом.
Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.
Полдень знойный, на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет
траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся,
над деревней и полем лежит невозмутимая тишина — все как будто вымерло. Звонко и
далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и
прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и
спит сладким сном.
И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.
Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита — все разбрелись по своим
углам, а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях,
а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил
громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле свой пешни, и кучер спал
на конюшне.
Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в
сенях, предоставив ребятишек самим себе, ребятишки ползают по двору и роются в песке. И
собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.
Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души, легко было
обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только
водились воры в том краю.
Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие
смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и