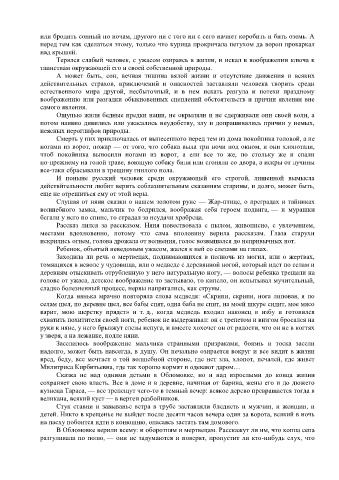Page 65 - Обломов
P. 65
или бродить сонный по ночам, другого ни с того ни с сего начнет коробить и бить оземь. А
перед тем как сделаться этому, только что курица прокричала петухом да ворон прокаркал
над крышей.
Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к
таинствам окружающей его и своей собственной природы.
А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких
действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди
естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному
воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне
самого явления.
Ощупью жили бедные предки наши, не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а
потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых,
неясных иероглифов природы.
Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не
ногами из ворот, пожар — от того, что собака выла три ночи под окном, и они хлопотали,
чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели все то же, по стольку же и спали
по-прежнему на голой траве, воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины
все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола.
И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла
действйтельности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть,
еще не отрешиться ему от этой веры.
Слушая от няни сказки о нашем золотом руне — Жар-птице, о преградах и тайниках
волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, — и мурашки
бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.
Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением,
местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи
искрились огнем, голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот.
Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.
Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах,
томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и
деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу, — волосы ребенка трещали на
голове от ужаса, детское воображение то застывало, то кипело, он испытывал мучительный,
сладко болезненный процесс, нервы напрягались, как струны.
Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая, я по
селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо
варит, мою шерстку прядет» и т. д., когда медведь входил наконец в избу и готовился
схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на
руки к няне, у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях
у зверя, а на лежанке, подле няни.
Заселилось воображение мальчика странными призраками, боязнь и тоска засели
надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни
вред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет
Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром…
Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни
сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего
кузнеца Тараса, — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в
великана, всякий куст — в вертеп разбойников.
Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и
детей. Никто в крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота, всякий в ночь
на пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.
В Обломовке верили всему: и оборотням и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена
разгуливала по полю, — они не задумаются и поверят, пропустит ли кто-нибудь слух, что