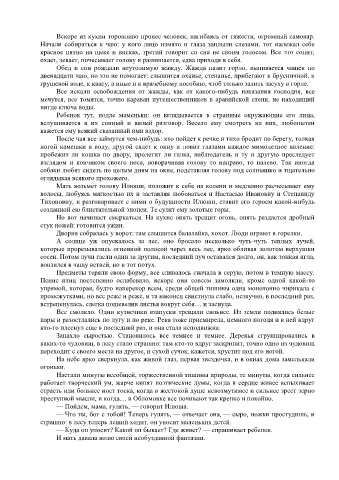Page 63 - Обломов
P. 63
Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар.
Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами, тот належал себе
красное пятно на щеке и висках, третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит,
охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.
Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло, выпивается чашек по
двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье, прибегают к брусничной, к
грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.
Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания господня, все
мечутся, все томятся, точно караван путешественников в аравийской степи, не находящий
нигде ключа воды.
Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица,
вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен
кажется ему всякий сказанный ими вздор.
После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая
ногой камешки в воду, другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление:
пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту и другую преследует
взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда
собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно
оглядывая всякого прохожего.
Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему
волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну и Степаниду
Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь
созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.
Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный
стук ножей: готовится ужин.
Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.
А солнце уж опускалось за лес, оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей,
которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки
сосен. Потом лучи гасли один за другим, последний луч оставался долго, он, как тонкая игла,
вонзился в чащу ветвей, но и тот потух.
Предметы теряли свою форму, все сливалось сначала в серую, потом в темную массу.
Пение птиц постепенно ослабевало, вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то
упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины одна монотонно чирикала с
промежутками, но все реже и реже, и та наконец свистнула слабо, незвучно, в последний раз,
встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя… и заснула.
Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые
пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела, немного погодя и в ней вдруг
кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.
Запахло сыростью. Становилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в
каких-то чудовищ, в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ
переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.
На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали
огоньки.
Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее
работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает
страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно
преступной мысли, и когда… в Обломовке все почивают так крепко и покойно.
— Пойдем, мама, гулять, — говорит Илюша.
— Что ты, бог с тобой! Теперь гулять, — отвечает она, — сыро, ножки простудишь, и
страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.
— Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? — спрашивает ребенок.
И мать давала волю своей необузданной фантазии.