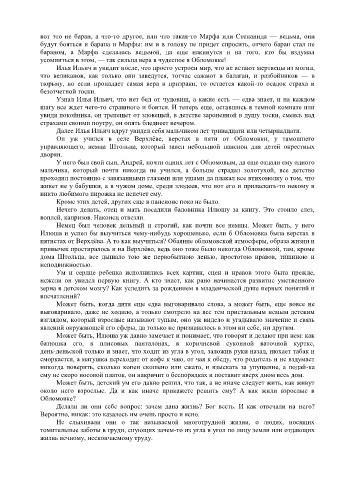Page 66 - Обломов
P. 66
вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида — ведьма, они
будут бояться и барана и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не
бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал
усомниться в этом, — так сильна вера в чудесное в Обломовке!
Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил,
что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, и разбойников — в
тюрьму, но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и
безотчетной тоски.
Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть — едва знает, и на каждом
шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или
увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски, смеясь над
страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.
Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати.
Он уж учился в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего
управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных
дворян.
У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного
мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство
проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал все втихомолку о том, что
живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому и
никто любимого пирожка не испечет ему.
Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.
Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез,
воплей, капризов. Наконец отвезли.
Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него
Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в
пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и
привычек простиралось и на Верхлёво, ведь оно тоже было некогда Обломовкой, там, кроме
дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и
неподвижностью.
Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде,
нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного
зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и
впечатлений?
Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не
выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным немым детским
взглядом, который взрослые называют тупым, оно уж видело и угадывало значение и связь
явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.
Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как
батюшка его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке,
день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и
сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду, что родитель и не вздумает
никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ка
ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.
Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут
около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в
Обломовке?
Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него?
Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно.
Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих
томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих
жизнь вечному, нескончаемому труду.