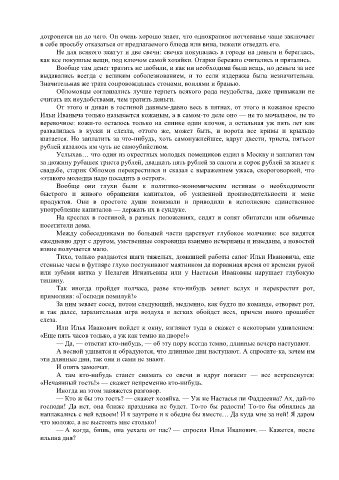Page 70 - Обломов
P. 70
дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчеванье чаще заключает
в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его.
Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась,
как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались.
Вообще там денег тратить не любили, и как ни необходима была вещь, но деньги за нее
выдавались всегда с великим соболезнованием, и то если издержка была незначительна.
Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.
Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не
считать их неудобствами, чем тратить деньги.
От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло
Ильи Иваныча только называется кожаным, а в самом-то деле оно — не то мочальное, не то
веревочное: кожи-то осталось только на спинке один клочок, а остальная уж пять лет как
развалилась в куски и слезла, оттого же, может быть, и ворота все кривы и крыльцо
шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самонужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот
рублей казалось им чуть не самоубийством.
Услыхав… что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там
за дюжину рубашек триста рублей, двадцать пять рублей за сапоги и сорок рублей за жилет к
свадьбе, старик Обломов перекрестился и сказал с выражением ужаса, скороговоркой, что
«этакого молодца надо посадить в острог».
Вообще они глухи были к политико-экономическим истинам о необходимости
быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене
продуктов. Они в простоте души понимали и приводили в исполнение единственное
употребление капиталов — держать их в сундуке.
На креслах в гостиной, в разных положениях, сидят и сопят обитатели или обычные
посетители дома.
Между собеседниками по большей части царствует глубокое молчание: все видятся
ежедневно друг с другом, умственные сокровища взаимно исчерпаны и изведаны, а новостей
извне получается мало.
Тихо, только раздаются шаги тяжелых, домашней работы сапог Ильи Ивановича, еще
стенные часы в футляре глухо постукивают маятником да порванная время от времени рукой
или зубами нитка у Пелагеи Игнатьевны или у Настасьи Ивановны нарушает глубокую
тишину.
Так иногда пройдет полчаса, разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот,
примолвив: «Господи помилуй!»
За ним зевает сосед, потом следующий, медленно, как будто по команде, отворяет рот,
и так далее, заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет
слеза.
Или Илья Иванович пойдет к окну, взглянет туда в скажет с некоторым удивлением:
«Еще пять часов только, а уж как темно на дворе!»
— Да, — ответит кто-нибудь, — об эту пору всегда темно, длинные вечера наступают.
А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им
эти длинные дни, так они и сами не знают.
И опять замолчат.
А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит — все встрепенутся:
«Нечаянный гость!» — скажет непременно кто-нибудь.
Иногда на этом завяжется разговор.
— Кто ж бы это гость? — скажет хозяйка. — Уж не Настасья ли Фаддеевна? Ах, дай-то
господи! Да нет, она ближе праздника не будет. То-то бы радости! То-то бы обнялись да
наплакались с ней вдвоем! И к заутрене и к обедне бы вместе… Да куда мне за ней! Я даром
что моложе, а не выстоять мне столько!
— А когда, бишь, она уехала от нас? — спросил Илья Иванович. — Кажется, после
ильина дня?