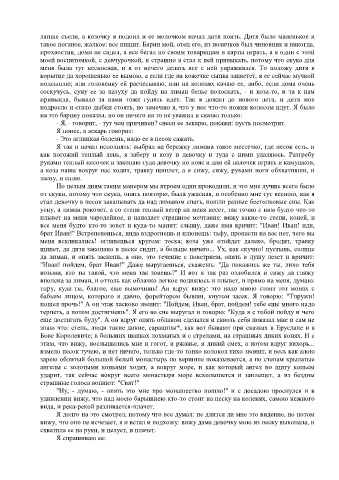Page 14 - Очарованный странник
P. 14
лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и
такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда,
прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой
моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для
меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в
корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой
подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень
соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, - и коза-то, и та к нам
привыкла, бывало за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое
подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было
на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:
- Я, - говорит, - тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.
Я понес, а лекарь говорит:
- Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.
Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и
как погожий теплый лень, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу
руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков,
а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и
засну, и сплю.
По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было
от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я
стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как
усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то
плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и
все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: "Иван! Иван! иди,
брат Иван!" Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы
меня вскликались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку
щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце
да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит:
"Иван! пойдем, брат Иван!" Даже выругаешься, скажешь: "Да покажись же ты, лихо тебя
возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?" И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу
вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю:
тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с
бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: "Тпружи!
пошел прочь!" А он этак ласково звенит: "Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо
терпеть, а потом достигнешь". Я его во сне выругал и говорю: "Куда я с тобой пойду и чего
еще достигать буду". А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не
знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины*, как вот бывают при сказках в Еруслане и в
Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с
этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь...
взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою
зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые
ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем
ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны
страшные голоса вопиют: "Свят!"
"Ну, - думаю, - опять это мне про монашество пошло!" и с досадою проснулся и в
удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самою нежного
вида, и река-рекой разливается-плачет.
Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом
вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу дама девочку мою из песку выкопала, и
схватила ее на руки, и целует, и плачет.
Я спрашиваю ее: