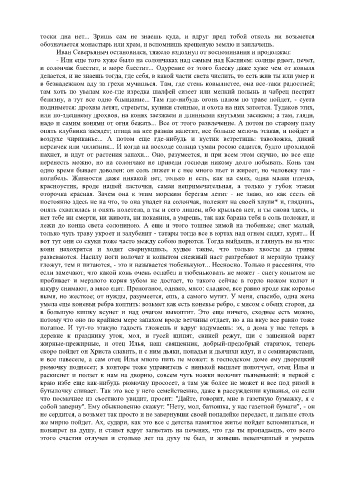Page 28 - Очарованный странник
P. 28
тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется
обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.
Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:
- Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет,
и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля
делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и
в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней;
там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит
белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, - суета
поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих,
или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди,
надо и самим конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу
опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в
воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий
персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой
пахнет, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще
перенесть можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там
одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там -
погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка,
красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая
оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит - не знаю, но как сесть ей
постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи* и, глядишь,
опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и
нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и
лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый,
только чуть траву укроет и залубенит - татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И
вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что:
кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы
развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку
гложут, тем и питаются, - это и называется тюбенькуют... Несносно. Только и рассеяния, что
если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может - снегу копытом не
пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и
шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье
вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена
умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да
в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно,
потому что оно по крайнем мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже
поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в
деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят
жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь
скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами,
и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий
рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и
раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с
краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в
бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если
что посмачнее из съестного увидит, просит: "Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с
собой заверну". Ему обыкновенно скажут: "Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги", - он
не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь
же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и
понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего
этого счастия отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный и умрешь