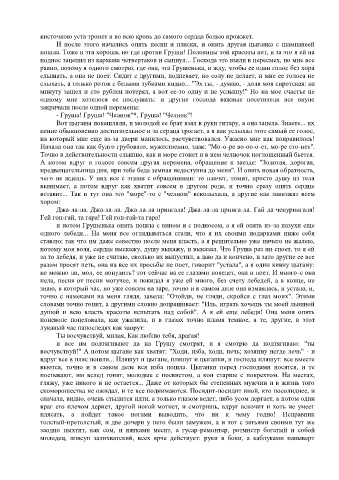Page 48 - Очарованный странник
P. 48
кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.
И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей
пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на
поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все
равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора
слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает, и мне ее голоса не
слыхать, а только роток с белыми зубками видно... "Эх ты, - думаю, - доля моя сиротская: на
минуту зашел и сто рублен потерял, а вот ее-то одну и не услышу!" Но на мое счастье не
одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе
закричали после одной перемены:
- Груша! Груша! "Челнок"*, Груша! "Челнок"!
Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их
пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос,
на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось!
Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: "Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет".
Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется.
А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к заезде: "Золотая, дорогая,
предвещатсльница дня, при тебе беда земная недоступна до меня". И опять новая обратность,
чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела
вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце
вставит... Так и тут она это "море"-то с "челном" всколыхала, а другие как завизжат всем
хором:
Джа-ла-ла. Джа-ла-ла. Джа-ла-ла прингала! Джа-ла-ла прннга-ла. Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара! Гей гоп-гай-та гара!
и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще
одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя
ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею,
потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей
за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все
разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит "устала", а я один кивну цыгану:
не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она
пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не
знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и,
точно с намеками на меня глядя, завела: "Отойди, не гляди, скройся с глаз моих". Этими
словами точно гонит, а другими словно допрашивает: "Иль, играть хочешь ты моей львиной
душой и всю власть красоты испытать над собой". А я ей еще лебедя! Она меня опять
поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот
лукавый час напоследях как заорут:
Ты восчувствуй, милая, Как люблю тебя, драгая!
и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: "ты
восчувствуй!" А потом цыгане как хватят: "Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь" - и
вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе
вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те
поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах,
гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того
скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и
сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один
враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет
плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник
толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же
заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой
молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт