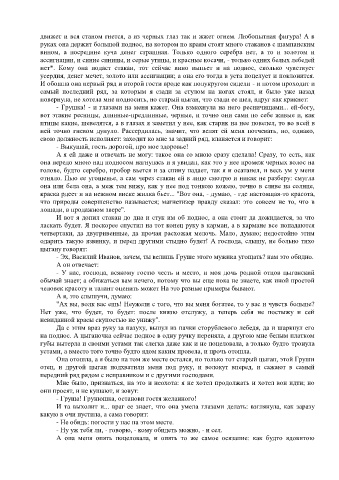Page 47 - Очарованный странник
P. 47
движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в
руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским
вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золотом и
ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, - только одних белых лебедей
нет*. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует
усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится.
И обошла она первый ряд и второй гости вроде как полукругом сидели - и потом проходит и
самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад
повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:
- Грушка! - и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами... ей-богу,
вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как
птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в
ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако,
свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:
- Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!
А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как
она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на
голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня
отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла
она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце,
краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... "Вот она, - думаю, - где настоящая-то красота,
что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в
лошади, в продажном звере".
И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что
ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются
четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим
одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо
цыгану говорят:
- Эх, Василий Иванов, зачем, ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.
А он отвечает:
- У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский
обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой
человек красоту и талант оценить может На это разные примеры бывают.
А я, это слышучи, думаю:
"Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше?
Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей
невиданной красы скупостью не унижу".
Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его
на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком
губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула
устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.
Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши
отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый
передний ряд рядом с исправником и с другими господами.
Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но
они просят, и не кушают, и зовут:
- Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!
И та выхолит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу
какую в очи пустила, а сама говорит:
- Не обидь: погости у нас на этом месте.
- Ну уж тебя ли, - говорю, - кому обидеть можно, - и сел.
А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою