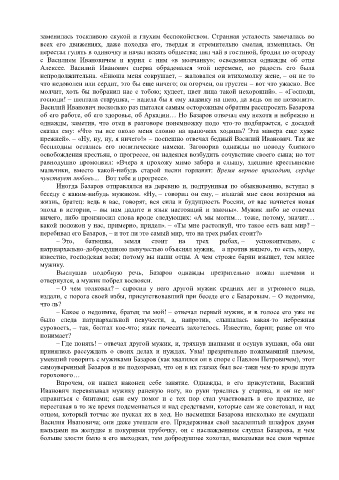Page 103 - Отцы и дети
P. 103
заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во
всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он
перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду
с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце
Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была
непродолжительна. «Енюша меня сокрушает, – жаловался он втихомолку жене, – он не то
что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен – вот что ужасно. Все
молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». – «Господи,
господи! – шептала старушка, – надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит».
Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным обратим расспросить Базарова
об его работе, об его здоровье, об Аркадии… Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и
однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой
сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже
прежней». – «Ну, ну, ну, я ничего!» – поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же
бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого
освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот
равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские
мальчики, вместо какой-нибудь старой песни горланят: Время верное приходит, сердце
чувствует любовь… Вот тебе и прогресс».
Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в
беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – говорил он ему, – излагай мне свои воззрения на
жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая
эпоха в истории, – вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал
ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим… тоже, потому, значит…
какой положон у нас, примерно, придел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? –
перебивал его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»
– Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с
патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик, – а против нашего, то есть, миру,
известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее
мужику.
Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и
отвернулся, а мужик побрел восвояси.
– О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида,
издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. – О недоимке,
что ль?
– Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик, и в голосе его уже не
было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная
суровость, – так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что
понимает?
– Где понять! – отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они
принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом,
умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот
самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута
горохового…
Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий
Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог
справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не
переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над
отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали
Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя
пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем
больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные