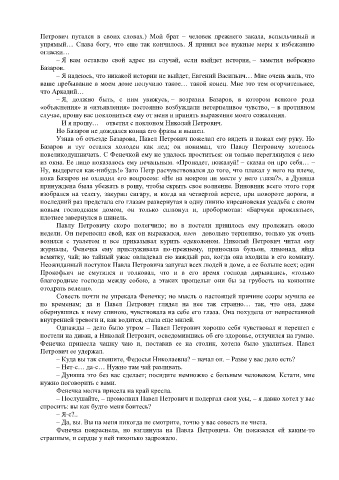Page 90 - Отцы и дети
P. 90
Петрович путался в своих словах.) Мой брат – человек прежнего закала, вспыльчивый и
упрямый… Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию
огласки…
– Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история, – заметил небрежно
Базаров.
– Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич… Мне очень жаль, что
ваше пребывание в моем доме получило такое… такой конец. Мне это тем огорчительнее,
что Аркадий…
– Я, должно быть, с ним увижусь, – возразил Базаров, в котором всякого рода
«объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, – в противном
случае, прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.
– И я прошу… – ответил с поклоном Николай Петрович.
Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.
Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но
Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось
повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею
из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! – сказал он про себя… –
Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече,
пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?», а Дуняша
принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя
взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в
последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим
новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые»,
плотнее завернулся в шинель.
Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около
недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо, только уж очень
возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему
журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца
всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату.
Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один
Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только
благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне
отодрать велели».
Совесть почти не упрекала Фенечку; но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее
по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно… так, что она, даже
обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной
внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.
Однажды – дело было утром – Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с
постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно.
Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел
Петрович ее удержал.
– Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? – начал он. – Разве у вас дело есть?
– Нет-с… да-с… Нужно там чай разливать.
– Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне
нужно поговорить с вами.
Фенечка молча присела на край кресла.
– Послушайте, – промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, – я давно хотел у вас
спросить: вы как будто меня боитесь?
– Я-с?..
– Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.
Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то
странным, и сердце у ней тихонько задрожало.