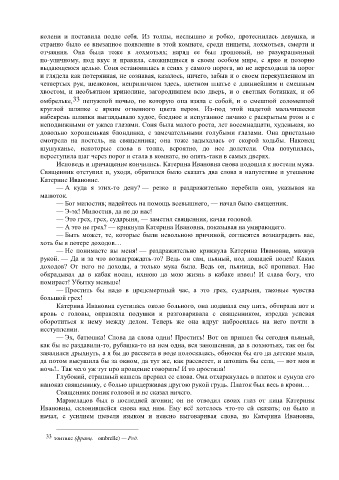Page 113 - Преступление и наказание
P. 113
колени и поставила подле себя. Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и
странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и
отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный
по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно
выдающеюся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог
и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из
четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным
хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об
омбрельке, 33 ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной
круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески
набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с
неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но
довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально
смотрела на постель, на священника; она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец
шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась,
переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях.
Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа.
Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие и утешение
Катерине Ивановне.
— А куда я этих-то дену? — резко и раздражительно перебила она, указывая на
малюток.
— Бог милостив; надейтесь на помощь всевышнего, — начал было священник.
— Э-эх! Милостив, да не до нас!
— Это грех, грех, сударыня, — заметил священник, качая головой.
— А это не грех? — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего.
— Быть может, те, которые были невольною причиной, согласятся вознаградить вас,
хоть бы в потере доходов…
— Не понимаете вы меня! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув
рукой. — Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез! Каких
доходов? От него не доходы, а только мука была. Ведь он, пьяница, всё пропивал. Нас
обкрадывал да в кабак носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел! И слава богу, что
помирает! Убытку меньше!
— Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня, таковые чувства
большой грех!
Катерина Ивановна суетилась около больного, она подавала ему пить, обтирала пот и
кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала с священником, изредка успевая
оборотиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в
исступлении.
— Эх, батюшка! Слова да слова одни! Простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный,
как бы не раздавили-то, рубашка-то на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях, так он бы
завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его да детские мыла,
да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассветет, и штопать бы села, — вот моя и
ночь!.. Так чего уж тут про прощение говорить! И то простила!
Глубокий, страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его
напоказ священнику, с болью придерживая другою рукой грудь. Платок был весь в крови…
Священник поник головой и не сказал ничего.
Мармеладов был в последней агонии; он не отводил своих глаз от лица Катерины
Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему всё хотелось что-то ей сказать; он было и
начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна,
33 зонтике (франц. ombrelle) — Ред.