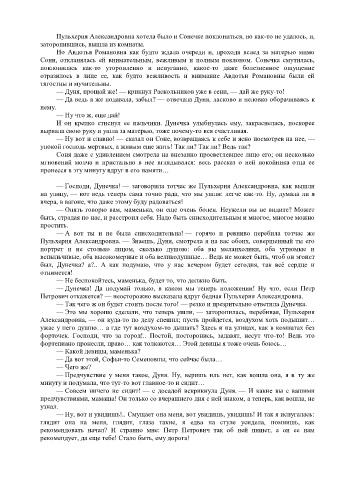Page 142 - Преступление и наказание
P. 142
Пульхерия Александровна хотела было и Сонечке поклониться, но как-то не удалось, и,
заторопившись, вышла из комнаты.
Но Авдотья Романовна как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо
Сони, откланялась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась,
поклонилась как-то уторопленно и испуганно, какое-то даже болезненное ощущение
отразилось в лице ее, как будто вежливость и внимание Авдотьи Романовны были ей
тягостны и мучительны.
— Дуня, прощай же! — крикнул Раскольников уже в сени, — дай же руку-то!
— Да ведь я же подавала, забыл? — отвечала Дуня, ласково и неловко оборачиваясь к
нему.
— Ну что ж, еще дай!
И он крепко стиснул ее пальчики. Дунечка улыбнулась ему, закраснелась, поскорее
вырвала свою руку и ушла за матерью, тоже почему-то вся счастливая.
— Ну вот и славно! — сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на нее, —
упокой господь мертвых, а живым еще жить! Так ли? Так ли? Ведь так?
Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его; он несколько
мгновений молча и пристально в нее вглядывался: весь рассказ о ней покойника отца ее
пронесся в эту минуту вдруг в его памяти…
— Господи, Дунечка! — заговорила тотчас же Пульхерия Александровна, как вышли
на улицу, — вот ведь теперь сама точно рада, что мы ушли: легче как-то. Ну, думала ли я
вчера, в вагоне, что даже этому буду радоваться!
— Опять говорю вам, маменька, он еще очень болен. Неужели вы не видите? Может
быть, страдая по нас, и расстроил себя. Надо быть снисходительным и многое, многое можно
простить.
— А вот ты и не была снисходительна! — горячо и ревниво перебила тотчас же
Пульхерия Александровна. — Знаешь, Дуня, смотрела я на вас обоих, совершенный ты его
портрет и не столько лицом, сколько душою: оба вы меланхолики, оба угрюмые и
вспыльчивые, оба высокомерные и оба великодушные… Ведь не может быть, чтоб он эгоист
был, Дунечка? а?.. А как подумаю, что у нас вечером будет сегодня, так всё сердце и
отнимется!
— Не беспокойтесь, маменька, будет то, что должно быть.
— Дунечка! Да подумай только, в каком мы теперь положении! Ну что, если Петр
Петрович откажется? — неосторожно высказала вдруг бедная Пульхерия Александровна.
— Так чего ж он будет стоить после того! — резко и презрительно ответила Дунечка.
— Это мы хорошо сделали, что теперь ушли, — заторопилась, перебивая, Пульхерия
Александровна, — он куда-то по делу спешил; пусть пройдется, воздухом хоть подышит…
ужас у него душно… а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах без
форточек. Господи, что за город!.. Постой, посторонись, задавят, несут что-то! Ведь это
фортепиано пронесли, право… как толкаются… Этой девицы я тоже очень боюсь…
— Какой девицы, маменька?
— Да вот этой, Софьи-то Семеновны, что сейчас была…
— Чего же?
— Предчувствие у меня такое, Дуня. Ну, веришь иль нет, как вошла она, я в ту же
минуту и подумала, что тут-то вот главное-то и сидит…
— Совсем ничего не сидит! — с досадой вскрикнула Дуня. — И какие вы с вашими
предчувствиями, мамаша! Он только со вчерашнего дня с ней знаком, а теперь, как вошла, не
узнал.
— Ну, вот и увидишь!.. Смущает она меня, вот увидишь, увидишь! И так я испугалась:
глядит она на меня, глядит, глаза такие, я едва на стуле усидела, помнишь, как
рекомендовать начал? И странно мне: Петр Петрович так об ней пишет, а он ее нам
рекомендует, да еще тебе! Стало быть, ему дорога!