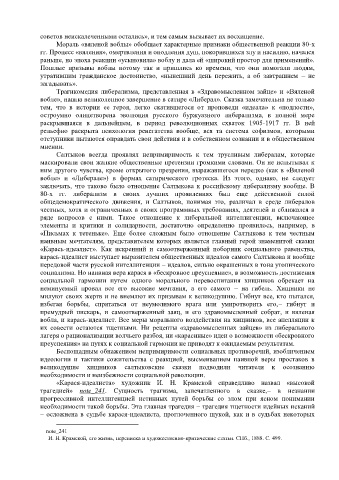Page 208 - СКАЗКИ
P. 208
советов неискалеченными остались», и тем самым вызывает их восхищение.
Мораль «вяленой воблы» обобщает характерные признаки общественной реакции 80-х
гг. Процесс «вяления», омертвления и оподления душ, покорившихся злу и насилию, начался
раньше, но эпоха реакции «усыновила» воблу и дала ей «широкий простор для применений».
Пошлые призывы воблы потому так и пришлись ко времени, что они помогали людям,
утратившим гражданское достоинство, «нынешний день пережить, а об завтрашнем – не
загадывать».
Трагикомедия либерализма, представленная в «Здравомысленном зайце» и «Вяленой
вобле», нашла великолепное завершение в сатире «Либерал». Сказка замечательна не только
тем, что в истории ее героя, легко скатившегося от проповеди «идеала» к «подлости»,
остроумно олицетворена эволюция русского буржуазного либерализма, в полной мере
раскрывшаяся в дальнейшем, в период революционных схваток 1905-1917 гг. В ней
рельефно раскрыта психология ренегатства вообще, вся та система софизмов, которыми
отступники пытаются оправдать свои действия и в собственном сознании и в общественном
мнении.
Салтыков всегда проявлял непримиримость к тем трусливым либералам, которые
маскировали свои жалкие общественные претензии громкими словами. Он не испытывал к
ним другого чувства, кроме открытого презрения, выражавшегося нередко (как в «Вяленой
вобле» и «Либерале») в формах сатирического гротеска. Из этого, однако, не следует
заключать, что таково было отношение Салтыкова к российскому либерализму вообще. В
80-х гг. либерализм в своих лучших проявлениях был еще действенной силой
общедемократического движения, и Салтыков, понимая это, различал в среде либералов
честных, хотя и ограниченных в своих программных требованиях, деятелей и сближался в
ряде вопросов с ними. Такое отношение к либеральной интеллигенции, включающее
элементы и критики и солидарности, достаточно определенно проявилось, например, в
«Письмах к тетеньке». Еще более сложным было отношение Салтыкова к тем честным
наивным мечтателям, представителем которых является главный герой знаменитой сказки
«Карась-идеалист». Как искренний и самоотверженный поборник социального равенства,
карась-идеалист выступает выразителем общественных идеалов самого Салтыкова и вообще
передовой части русской интеллигенции – идеалов, сильно окрашенных в тона утопического
социализма. Но наивная вера карася в «бескровное преуспеяние», в возможность достижения
социальной гармонии путем одного морального перевоспитания хищников обрекает на
неминуемый провал все его высокие мечтания, а его самого – на гибель. Хищники не
милуют своих жертв и не внемлют их призывам к великодушию. Гибнут все, кто пытался,
избегая борьбы, спрятаться от неумолимого врага или умиротворить его,– гибнут и
премудрый пискарь, и самоотверженный заяц, и его здравомысленный собрат, и вяленая
вобла, и карась-идеалист. Все меры морального воздействия на хищников, все апелляции к
их совести остаются тщетными. Ни рецепты «здравомысленных зайцев» из либерального
лагеря о рационализации волчьего разбоя, ни «карасиные» идеи о возможности «бескровного
преуспеяния» на путях к социальной гармонии не приводят к ожидаемым результатам.
Беспощадным обнажением непримиримости социальных противоречий, изобличением
идеологии и тактики сожительства с реакцией, высмеиванием наивной веры простаков в
великодушие хищников салтыковские сказки подводили читателя к осознанию
необходимости и неизбежности социальной революции.
«Карася-идеалиста» художник И. Н. Крамской справедливо назвал «высокой
трагедией» note_241. Сущность трагизма, запечатленного в сказке,– в незнании
прогрессивной интеллигенцией истинных путей борьбы со злом при ясном понимании
необходимости такой борьбы. Эта главная трагедия – трагедия тщетности идейных исканий
– осложнена в судьбе карася-идеалиста, проглоченного щукой, как и в судьбах некоторых
note_241
И. Н. Крамской, его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. СПб., 1888. С. 499.