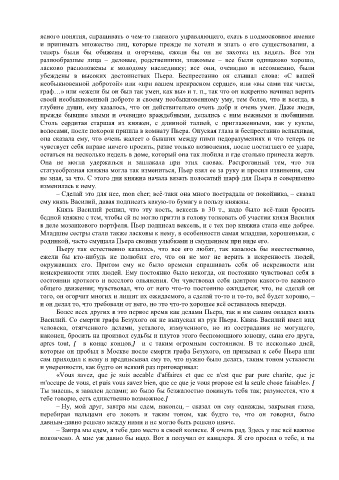Page 137 - Война и мир 1 том
P. 137
ясного понятия, спрашивать о чем-то главного управляющего, ехать в подмосковное имение
и принимать множество лиц, которые прежде не хотели и знать о его существовании, а
теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти
разнообразные лица – деловые, родственники, знакомые – все были одинаково хорошо,
ласково расположены к молодому наследнику; все они, очевидно и несомненно, были
убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспрестанно он слышал слова: «С вашей
необыкновенной добротой» или «при вашем прекрасном сердце», или «вы сами так чисты,
граф…» или «ежели бы он был так умен, как вы» и т. п., так что он искренно начинал верить
своей необыкновенной доброте и своему необыкновенному уму, тем более, что и всегда, в
глубине души, ему казалось, что он действительно очень добр и очень умен. Даже люди,
прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались с ним нежными и любящими.
Столь сердитая старшая из княжен, с длинной талией, с приглаженными, как у куклы,
волосами, после похорон пришла в комнату Пьера. Опуская глаза и беспрестанно вспыхивая,
она сказала ему, что очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь не
чувствует себя вправе ничего просить, разве только позволения, после постигшего ее удара,
остаться на несколько недель в доме, который она так любила и где столько принесла жертв.
Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Растроганный тем, что эта
статуеобразная княжна могла так измениться, Пьер взял ее за руку и просил извинения, сам
не зная, за что. С этого дня княжна начала вязать полосатый шарф для Пьера и совершенно
изменилась к нему.
– Сделай это для нее, mon cher; всё-таки она много пострадала от покойника, – сказал
ему князь Василий, давая подписать какую-то бумагу в пользу княжны.
Князь Василий решил, что эту кость, вексель в 30 т., надо было всё-таки бросить
бедной княжне с тем, чтобы ей не могло притти в голову толковать об участии князя Василия
в деле мозаикового портфеля. Пьер подписал вексель, и с тех пор княжна стала еще добрее.
Младшие сестры стали также ласковы к нему, в особенности самая младшая, хорошенькая, с
родинкой, часто смущала Пьера своими улыбками и смущением при виде его.
Пьеру так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно,
ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей,
окружавших его. Притом ему не было времени спрашивать себя об искренности или
неискренности этих людей. Ему постоянно было некогда, он постоянно чувствовал себя в
состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого-то важного
общего движения; чувствовал, что от него что-то постоянно ожидается; что, не сделай он
того, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а сделай то-то и то-то, всё будет хорошо, –
и он делал то, что требовали от него, но это что-то хорошее всё оставалось впереди.
Более всех других в это первое время как делами Пьера, так и им самим овладел князь
Василий. Со смерти графа Безухого он не выпускал из рук Пьера. Князь Василий имел вид
человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущего,
наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына его друга,
apres tout, [ в конце концов,] и с таким огромным состоянием. В те несколько дней,
которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухого, он призывал к себе Пьера или
сам приходил к нему и предписывал ему то, что нужно было делать, таким тоном усталости
и уверенности, как будто он всякий раз приговаривал:
«Vous savez, que je suis accable d'affaires et que ce n'est que par pure charite, que je
m'occupe de vous, et puis vous savez bien, que ce que je vous propose est la seule chose faisable». [
Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так; разумеется, что я
тебе говорю, есть единственно возможное.]
– Ну, мой друг, завтра мы едем, наконец, – сказал он ему однажды, закрывая глаза,
перебирая пальцами его локоть и таким тоном, как будто то, что он говорил, было
давным-давно решено между ними и не могло быть решено иначе.
– Завтра мы едем, я тебе даю место в своей коляске. Я очень рад. Здесь у нас всё важное
покончено. А мне уж давно бы надо. Вот я получил от канцлера. Я его просил о тебе, и ты