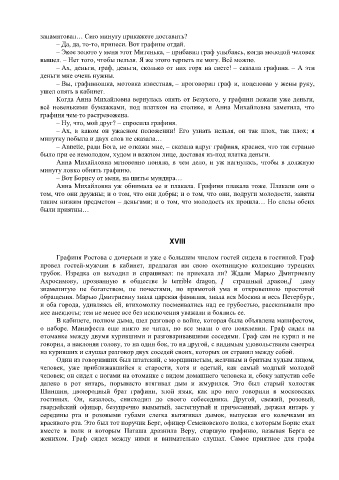Page 39 - Война и мир 1 том
P. 39
запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?
– Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.
– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек
вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.
– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти
деньги мне очень нужны.
– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку,
ушел опять в кабинет.
Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги,
всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что
графиня чем-то растревожена.
– Ну, что, мой друг? – спросила графиня.
– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я
минутку побыла и двух слов не сказала…
– Annette, ради Бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно
было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.
Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную
минуту ловко обнять графиню.
– Вот Борису от меня, на шитье мундира…
Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о
том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты
таким низким предметом – деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих
были приятны…
XVIII
Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф
провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких
трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну
Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, [ страшный дракон,] даму
знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой
обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург,
и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про
нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.
В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом,
о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на
отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не
говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел
на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.
Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом,
человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой
человек; он сидел с ногами на отоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе
далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк
Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских
гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый,
гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у
середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из
красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал
вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее
женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа